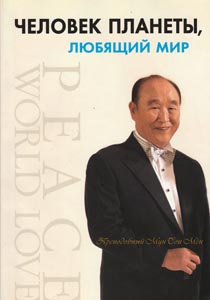Глава 3. Самый сытый человек на свете.
Содержание
- «Ты – мой духовный учитель»
- Симпатичный, но немного чокнутый молодой человек, живущий у колодца
- Церковь, не принадлежащая ни к одной из деноминаций
- Два университета исключают своих студентов и увольняют профессоров
- Даже на обожженных ветвях проклюнутся свежие ростки
- Наши раны помогут нам стать сильнее
- Искренность души важнее всего
«Ты – мой духовный учитель»
После перехода через реку Имджин мы отправились в Пусан через Сеул, Вонджу и Кёнджу. 27 января 1951 года мы прибыли в Пусан. Город был буквально наводнен беженцами с Севера — казалось, в него съехалась вся страна, и все помещения, пригодные для жилья, были забиты до отказа. В нашей каморке едва хватало места, чтобы сесть, поэтому единственным выходом было пойти ночевать в лес и попытаться согреться всеми возможными способами, а днем вернуться в город и попробовать найти какую-нибудь еду.
К тому времени мои волосы, коротко стриженные в тюрьме, сильно отросли, и мои штаны, изнутри подшитые ватой из одеяла, превратились в лохмотья. Вся моя одежда настолько засалилась, что дождевые капли уже не впитывались в нее, а свободно стекали вниз.
Подошвы моих ботинок почти полностью стерлись, хотя верхняя часть еще как-то держалась, так что я мог с тем же успехом разгуливать босиком. Все дело в том, что я оказался на самом дне общества, стал нищим из нищих. Мы не могли устроиться ни на какую работу — ее просто не было в городе, — и у нас в карманах не было ни гроша. Чтобы не умереть с голоду, нам приходилось побираться.
И все-таки, даже прося у людей что-нибудь поесть, я делал это с достоинством. Если кто-то отказывался помочь, я говорил ему ясно и убедительно: «Послушайте, если вы не поможете нуждающимся — таким, как мы, — даже не мечтайте, что в будущем вам улыбнется удача!»
После таких слов люди просто не могли отказать. Мы брали еду, собранную таким образом, и находили ровную полянку, на которой можно было устроиться всем вместе. В те времена так питались очень многие. У нас не было ничего, и даже еду приходилось выпрашивать — и, тем не менее, наши отношения были проникнуты теплом глубокой и сердечной дружбы.
Как-то раз в один из таких дней я услышал чей-то возглас: «Вот это да! Сколько лет, сколько зим!!»
Обернувшись, я столкнулся нос к носу с Ом Дон Муном, моим товарищем по учебе в Японии. Мы с ним близко сдружились после того, как он услышал мою патриотическую песню, тронувшую его до глубины души. Сейчас он — один из лучших архитекторов Кореи, и среди его проектов — культурный центр «Сэджон» и гостиница «Лотте».
«Идем, — сказал он и крепко обнял меня, не обращая внимания на лохмотья. — Пойдем скорее ко мне!»
К тому времени Ом Дон Мун был женат и жил с семьей в однокомнатной квартирке. Чтобы приготовить мне место, он повесил одеяло посреди комнаты, разделив ее на две части: в одной поселил меня, а в другой стал жить вместе с женой и двумя маленькими детьми.
«А теперь, — попросил он меня, — расскажи, что с тобой приключилось за эти годы. Я ведь часто вспоминал тебя и думал, где ты и чем занимаешься. Мы были с тобой друзьями, — сказал он, — но для меня ты был больше, чем друг. Ты ведь знаешь, что я всегда очень уважал тебя?»
До сих пор я не мог откровенно делиться переживаниями ни с кем из друзей. В Японии мне приходилось скрывать даже то, что я люблю читать Библию. Если кто-нибудь входил в комнату, когда я ее читал, я тут же прятал книгу за спину. Но в гостях у Ом Дон Муна я впервые рассказал о себе все как есть.
Мы проговорили всю ночь. Я поведал ему о своей встрече с Богом и о том, как пересек 38-ю параллель, основал Церковь и выжил в тюрьме Хыннам. Моя история заняла три полных дня, и когда я закончил рассказ, Ом Дон Мун встал и тут же упал передо мной на колени в полном церемониальном поклоне.
«Что ты делаешь?» — я был изумлен и, мягко скажем, шокирован. Схватив его за руку, я попытался остановить его, но не смог.
«С этого момента, — произнес он, — ты будешь для меня великим духовным учителем. Этим поклоном я приветствую тебя, мой учитель. Пожалуйста, прими его».
С тех пор он был всегда со мной — мой друг и последователь. Вскоре после этого я устроился на работу на четвертом пирсе в порту Пусана. Я работал только по ночам и на заработанные деньги мог позволить себе покупать бобовую кашу на станции Чхорян. Горячая каша продавалась в миске, завернутой в тряпку, чтобы подольше не остывать, и я, прежде чем съесть ее, грелся об эту миску час или даже больше. Это помогало мне прийти в себя после того, как я намерзнусь во время работы за долгую и промозглую ночь.
Тогда же я подыскал себе комнатку в рабочем бараке в Чхоряне. Каморка была такой крохотной, что я не мог в ней лечь даже по диагонали, чтобы ноги не упирались в стену. Но именно в этой комнатке я, наточив карандаш, с трепетом сделал первые наброски к Волли Вонбон. У меня почти не было денег, но для меня это не имело значения. Если душа полна решимости, можно сделать все что угодно, даже ютясь в трущобах. Все, что нам нужно — это воля.
В тот год Ким Вон Пхилю исполнилось двадцать лет, и он перепробовал все виды работ, на которые только смог устроиться. Работая в ресторане, он приносил домой подгорелый рис, который невозможно было подать посетителям, и мы вместе съедали его. У него был талант к рисованию, и вскоре он устроился художником в американскую воинскую часть.
Однажды мы с ним забрались на гору Помнетколь в Помильдоне и построили там хижину. Неподалеку от этого места было кладбище, поэтому поблизости не было ничего, кроме каменистого ущелья. Не имея ни клочка собственной земли, мы разровняли часть горного склона и на этой площадке соорудили жилище. Более того, у нас не было даже лопаты! Мы позаимствовали совок, валявшийся рядом с чьей-то кухней, и вернули его раньше, чем хозяева хватились пропажи. Вместе с Ким Вон Пхилем мы разбивали камни, разравнивали землю и таскали гравий, а затем из грязи, смешанной с соломой, делали кирпичи и строили стены. У нас было несколько картонных коробок из-под американских продуктов, которые мы распрямили и прикрепили сверху вместо крыши. На землю вместо пола мы постелили кусок черного пластика.
Наша лачуга была хуже самых бедных и скромных лачуг. Она вплотную примыкала к скале, и посреди комнаты из земли торчал большой камень. Все, что у нас было — это подобие конторки, прислоненной к этому камню, и еще мольберт Ким Вон Пхиля. Во время дождя под полом комнатки протекал ручей, и было так романтично сидеть и слушать журчание воды прямо под нами! Когда мы просыпались поутру в нетопленой комнатушке с протекающей крышей и текущим под полом ручьем, у нас из носа текли такие же ручьи. И все же мы радовались даже такой избушке, где можно было лечь на пол и отдохнуть, позабыв обо всем. Условия жизни были просто ужасны, но мы были полны надежд, так как понимали, что идем по пути Божьей воли.
По утрам, когда Ким Вон Пхиль шел на работу на американскую базу, я провожал его до подножия горы, а вечером, когда он возвращался домой, выходил и встречал его. Все остальное время я посвящал написанию Волли Вонбон. В нашей комнатке всегда имелись наточенные карандаши; даже рис у нас был не всегда, а карандаши — всегда.
Вон Пхиль очень помогал мне — и материально, и духовно. Благодаря ему я мог сосредоточиться на рукописи. Даже приходя с работы и валясь с ног от усталости, он все равно искал возможность помочь мне. Я так мало спал в те дни, что мог заснуть прямо на ходу. Порой я засыпал даже в туалете, и Вон Пхилю приходилось провожать меня туда, чтобы убедиться, что со мной все в порядке.
На этом его помощь не заканчивалась. Он так хотел хоть как-то помочь мне в написании книги, что взялся рисовать портреты для американских солдат и на вырученные деньги покупал мне карандаши. В те времена солдаты США любили заказывать портреты своих жен или возлюбленных, и Ким Вон Пхиль брал шелковую ткань, крепил ее на деревянные рамки, писал портреты и продавал их по четыре доллара за штуку.
Я был очень благодарен ему за такую преданность делу. Когда он рисовал, я садился рядом и всеми силами старался помочь ему. Когда он уходил на работу на американскую базу, я покрывал грунтовкой шелк, вырезал дощечки для рамок и склеивал их. К тому времени, как он возвращался домой, я промывал его кисти и покупал необходимые краски. Вернувшись с работы, он брал карандаш 4В и рисовал портрет. Сначала заказов было очень мало, всего один или два в день, но потом слава о его работах разлетелась повсюду, и он стал таким популярным, что порой ему приходилось делать за вечер двадцать или даже тридцать портретов. Со временем вся наша комнатка оказалась заваленной портретами, и мы уже не знали, где нам спать.
Когда на нас посыпались заказы, я решил, что пришло время помогать ему как-то посущественнее, и пока Вон Пхиль рисовал черты лица, я раскрашивал губы и одежду. На деньги, заработанные совместным творчеством, мы покупали карандаши и материалы для живописи, а все свободное время посвящали свидетельствованию. Очень важно записывать Слово Бога на бумаге, но еще важнее напрямую рассказывать людям о Божьей воле.
Симпатичный, но немного чокнутый молодой человек, живущий у колодца
Когда мы построили глиняную хижину и открыли Церковь в Помнетколе, мои проповеди приходило послушать всего три человека. Но я проповедовал так, словно передо мной были не только они. Я говорил себе: «Хоть я их и не вижу, но я читаю проповедь для тысяч и даже десятков тысяч людей». Проповедуя, я представлял себе, что передо мной — все человечество. Эти трое сидели и слушали, как я рассказывал им Принцип во весь голос и чуть ли не кричал.
Напротив нашей лачуги был колодец, и вскоре среди тех, кто приходил туда за водой, разлетелся слух, что в глиняной избушке у колодца живет чокнутый молодой человек. Люди, набирая воду, стали пристально вглядываться в обветшалую лачугу, пытаясь разглядеть там мужчину в лохмотьях, который разглагольствует так, словно командует миром. Вполне естественно, что среди людей поползли слухи и домыслы. Я проповедовал о том, что небеса и земля перевернутся с ног на голову и что Корея объединит весь мир.
Вскоре обо мне заговорили не только те, кто брал воду из колодца: слухи докатились аж до подножия горы. Скорее всего, именно слухи разжигали любопытство людей и приводили их посмотреть на умалишенного, живущего у колодца.
Среди любопытствующих были студенты расположенной неподалеку семинарии и группа профессоров престижного женского университета Ихва. Эти слухи, сильно приукрашенные, гласили обо мне как о красивом и хорошо сложенном мужчине, и это побуждало женщин средних лет залезать на гору, чтобы поглазеть на меня и таким образом убить время.
В тот день, когда я дописал Волли Вонбон, я отложил карандаш в сторону и помолился: «Пришло время рассказать о своей вере. Пожалуйста, направь ко мне святых, которым я мог бы свидетельствовать!» Затем я вышел и отправился к колодцу. На дворе стояла поздняя весна — 10 мая. На мне были традиционные корейские штаны на ватной подкладке и старый пиджак, в котором я потел в жару. Внезапно я увидел молодую женщину, которая, утирая пот со лба, карабкалась на гору к колодцу.
Я заговорил с ней:
— Бог подарил тебе так много любви за последние семь лет!
От изумления она аж отскочила от меня, ведь именно семь лет назад она решила посвятить свою жизнь Богу...
— Меня зовут Кан Хён Щиль, — сказала она, — и я — миссионер церкви Помчхон, которая находится рядом, у подножия горы. Я услышала, что здесь живет человек со странностями, и пришла свидетельствовать ему!
Вот как она встретила меня. И я пригласил ее в дом. Она оглядела убогую комнатушку, и по ее лицу было заметно, каким странным ей кажется все это. Потом ее взгляд задержался на моем столике, и она спросила:
— Зачем вам столько карандашей?
— Как раз сегодня утром, — ответил я, — я закончил писать книгу о принципах устройства Вселенной, и я думаю, что Бог послал тебя сюда, чтобы ты услышала от меня об этих принципах.
— Что?! — воскликнула она. — Я пришла сюда потому, что услышала о сумасшедшем, который здесь живет и которому нужно свидетельствовать!
Я протянул ей подушку для сидения и затем сел сам. Под полом комнатки текла и звонко переливалась вода из ручья.
— В будущем Корея сыграет ведущую роль на мировой арене, и другие народы пожалеют, что не родились корейцами, — начал я. Она явно решила, что я несу полную чушь.
— Так же, как пророк Илия явился к людям в облике Иоанна Крестителя, — продолжал я, — Иисус вернется во плоти в Корею.
Эти слова заставили ее вскипеть от негодования.
— Я уверена, что Иисус найдет для своего прихода более подходящее место, чем наша жалкая и несчастная Корея!
Затем она выпалила:
— Вы вообще открывали когда-нибудь Книгу Откровения? Я..., — но я прервал ее на полуслове:
— Вы хотите сказать, что учились в теологической семинарии Корё?
— Как вы догадались об этом? — потребовала она ответа.
— А вы думаете, что я ждал бы вас здесь, если бы ничего не знал о вас? Говорите, что пришли сюда свидетельствовать мне? Так свидетельствуйте же! Учите меня!
Несомненно, Кан Хён Щиль хорошо разбиралась в теологии. Она один за другим цитировала отрывки из Библии, пытаясь дать отпор моей точке зрения, и продолжала бросать мне вызовы, а я неизменно отвечал на ее требовательные вопросы ясным и уверенным голосом. Наша дискуссия продолжалась до тех пор, пока не стемнело, и тогда я встал и приготовил ужин. Кроме риса у меня был только переквашенный кимчхи, но мы с ней сели и покушали, слушая журчание ручья под полом и готовясь возобновить дебаты.
Она пришла и на следующий день, а потом еще и еще, и мы продолжили нашу беседу. В конце концов, она приняла решение посвятить свою жизнь принципам, о которых я учил.
В тот же год в холодный и ветреный ноябрьский день на пороге нашей хижины в Помнетколь появилась моя жена. Рядом с ней стоял семилетний мальчик — мой сын, родившийся в год, когда я покинул свой дом. Тогда я вышел из дома за рисом и вместо этого отправился в Пхеньян. Прошли годы, мой сын вырос, и теперь этот мальчик стоял передо мной... Я не смел взглянуть ему в глаза, не говоря уж о том, чтобы потрепать по щеке или горячо обнять, прижав к себе. Я стоял там, словно окаменевший, примерзнув к месту и не в силах вымолвить ни слова...
Моей жене не нужно было ничего говорить. Я всем сердцем ощутил боль и страдания бедной матери с ребенком, пережитые ими в разгар войны. Еще до их прихода я знал о том, где и в каких условиях они живут, но в то время у меня еще не было возможности позаботиться о семье. Я знал об этом и поэтому несколько раз просил ее — так же, как и перед свадьбой, — чтобы она доверилась мне и подождала еще чуть-чуть.
Когда придет время, я собирался сам пойти и забрать их. Однако на тот момент, когда они пришли ко мне домой, время забирать их еще не пришло. Лачуга, которую мы называли церковью, была крохотной и убогой, к тому же в ней вместе со мной ели и спали еще несколько членов Церкви, изучавших Слово Бога. Мне просто некуда было поселить свою семью...
Моя жена оглядела нашу хижину, вздохнула с горьким разочарованием и собралась уходить. Вместе с сыном они спустились со склона горы и исчезли из виду...
Церковь, не принадлежащая ни к одной из деноминаций
В Корее есть поговорка, что тот, кого оскорбляют, будет долго жить. Если бы моя жизнь удлинялась с каждым полученным оскорблением, я мог бы прожить на сотню лет дольше. Я был сыт по горло, но мой желудок был переполнен не съеденной пищей, а пережитыми оскорблениями. Так что меня можно смело назвать самым сытым человеком на свете. Люди из традиционных церквей, которые противостояли мне и бросали в меня камнями, когда я основал свою Церковь в Пхеньяне, снова стали преследовать меня — на сей раз в Пусане. Еще до того, как мы должным образом основали Церковь, они преисполнились решимости доставить нам массу неприятностей. К моему имени так часто прилагалась приставка «псевдо-» или «еретик», что эти слова стали чуть ли не частью имени. И в самом деле, имя Мун Сон Мён стало синонимом ереси и псевдорелигии. Теперь, наверное, и не услышишь мое имя без этих приставок...
К 1953 году преследования достигли своего пика. Мы покинули нашу хижину в Пусане и переехали сначала в Тэгу, а затем в Сеул. В мае следующего года мы сняли домик в районе Пукхакдон, рядом с парком Чанчхундан, и повесили на дверь табличку «Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства».
Мы выбрали это название, чтобы показать, что не принадлежим ни к одной из существующих деноминаций и не собираемся создавать новую. «Мировое христианство» — это весь христианский мир прошлого и настоящего, слово «объединение» отражает наше желание прийти к единству, а «Святой Дух» свидетельствует о гармонии между духовным и физическим миром, основа которой — любовь, царящая во взаимоотношениях отца и сына. Имя нашей Церкви означает, что вместе с нами — духовный мир, центром которого является Бог.
В частности, объединение — это именно то, к чему я стремлюсь, пытаясь добиться построения Божьего идеального мира. Объединение — это не союз. Союз — это когда двое собираются вместе. А объединение — это когда двое становятся одним целым. Название «Церковь Объединения» получило всемирную известность гораздо позже, к тому же его нам дали другие. Сначала же студенты называли нашу общину «Сеульской Церковью».
Для написания слова «церковь» я не люблю использовать слово «кёхве» в его традиционном смысле. Но мне нравится смысл, который обретает это слово, если записать его китайскими иероглифами. «Кё» означает «учить», а «хве» — «встреча». Иными словами, это слово буквально означает «встреча для изучения». Если слово «религия» («чонгё») записать китайскими иероглифами, получится два иероглифа — «центральный» и «учение».
И если слово «церковь» понимать как «собираться там, где учат духовной истине», то это хорошее значение. Однако в слове «кёхве» нет и намека на то, что люди собираются и чем-то делятся друг с другом. Обычно люди, используя это слово, имеют в виду совсем другое.
Мне не хотелось бы, чтобы наша община попала в разряд очередной деноминации. Я надеялся создать Церковь, которая не относится ни к одной деноминации. Истинная религия направлена на спасение целой страны, даже если для этого ей приходится жертвовать собой как религиозной организацией. Она стремится спасти весь мир, даже если для этого придется пожертвовать страной, и желает спасти все человечество, даже если для этого придется пожертвовать всем миром. Если бы люди понимали это, они не стали бы создавать множество отдельных деноминаций.
Для нас было важно вывесить табличку с названием Церкви, но я был готов в любой момент отказаться от нее. Как только человек вешает на дверь табличку с надписью «церковь», он тем самым проводит черту, разграничивающую «церковь» и «не церковь». Однако если вы берете нечто целое и делите его на две части, это неправильно. Я мечтал вовсе не об этом, и это не тот путь, который я избрал для себя. Если для спасения страны и мира мне нужно будет снять эту табличку, я сделаю это в любой момент.
Наша табличка была прибита рядом с входом. Конечно, ее лучше было бы повесить куда-нибудь повыше, но у крыши был очень низкий карниз, и другого места для нее не нашлось. В конце концов мы прикрепили ее на уровне глаз ребенка. Кстати, именно соседские дети стащили ее как-то раз, наигрались с ней и расколотили пополам. Однако мы не могли ее выкинуть, поскольку она представляла для нас историческую ценность. Мы взяли эти два куска, скрепили их проволокой и снова прибили к входу, но уже значительно крепче. Наверное, из-за того, что наша табличка подвергалась таким унижениям, нашей Церкви тоже пришлось пережить немало унижений.
У нашей избушки был такой низкий карниз, что людям приходилось наклонять голову, чтобы войти. Комната шириной около восьми футов была такой тесной, что если в ней для молитвы собиралось шесть человек, они порой невольно стукались лбами. Соседи то и дело высмеивали нашу табличку и с издевкой вопрошали, о каком таком всемирном объединении мы размечтались, сидя в крохотной хибаре, в которую и не войдешь иначе как согнувшись в три погибели. Им не приходило в голову поинтересоваться, почему мы выбрали такое название. Они просто глядели на нас как на умалишенных, и все.
Однако и хлопот они нам тоже не доставляли. В Пусане нам приходилось побираться себе на еду, а теперь у нас была комната, в которой можно было проводить службы. Нам нечего было бояться. Я даже соорудил себе костюм из американской рабочей униформы, которую покрасил в черный цвет и носил с черными резиновыми галошами. Хотя люди постоянно искали случая унизить нас, в душе мы более, чем кто-либо, были исполнены достоинства.
Наши прихожане называли себя «щикку», или «члены семьи». Мы были буквально опьянены любовью. Все, кто приходил к нам, могли видеть, что я делаю и о чем говорю. Мы были связаны друг с другом незримыми узами любви, которые позволяли нам общаться с Богом. Например, какая-нибудь женщина, готовившая еду у себя на кухне, могла внезапно сорваться и прибежать к нам в Церковь. Другая женщина, собираясь переодеться в новое платье, внезапно выбегала из дома как есть, в старой и дырявой одежде. Если какую-нибудь прихожанку родители мужа брили наголо, пытаясь отвадить от Церкви, она все равно приходила к нам с лысой головой.
Число членов Церкви постепенно росло, и мы начали свидетельствовать в студенческих городках. В 1950 годах студенты вузов считались интеллектуалами в корейском обществе и пользовались большим уважением. Мы стали свидетельствовать рядом с входом в женский университет Ихва и университет Ёнсе, и вскоре наша Церковь пополнилась значительным числом студентов.
Профессор Ян Юн Ён, преподававшая музыку в университете Ихва, и профессор Хан Чун Хва, заведовавшая общежитием, тоже стали прихожанками нашей Церкви. К нам приходило и множество студентов, причем не по одному или по двое, а целыми дюжинами, и их число росло в геометрической прогрессии. Это одинаково изумляло как традиционные церкви, так и нас самих.
Через два месяца после начала проповеднической деятельности в общежитиях наша община выросла до невероятных размеров, в основном за счет студентов университетов Ихва и Ёнсе. Наша Церковь росла как на дрожжах! Похоже, к нам ворвался свежий весенний ветер и в мгновение ока изменил сердца студентов. Десятки молодых людей собрали вещи и покинули общежития Ихва, и все это — за один день. Если кто-либо пытался их остановить, они отвечали: «Зачем вы пытаетесь нам помешать? Хотите задержать — так убейте! Просто возьмите и убейте меня!» Они сбегали из общежитий, вылезая из окон и перелезая через заборы. Я пытался вразумить их — но куда там! Они не хотели оставаться в своих чистых и опрятных университетах: их тянуло к нам, в нашу крохотную Церковь, где стояла вонь от нестиранных носков. И никто ничего не мог с этим поделать.
В конце концов, декан Ким Хвал Лан послала к нам в Церковь профессора Ким Ён Ун из Департамента религиозной и социальной помощи. Профессор Ким изучала теологию в Канаде и была хорошим теологом, и университет Ихва возлагал на нее большие надежды. Декан Ким Хвал Лан выбрала профессора Ким, чьей специальностью была теология, поскольку та могла выступить с конструктивной критикой нашего вероучения, которую потом можно было бы использовать для предотвращения утечки студентов. Однако через неделю после встречи со мной профессор Ким, тот самый полномочный представитель, присоединилась к нашей Церкви и стала одной из самых активных последовательниц! Это придало нам еще больший авторитет в глазах других профессоров и студентов Ихва, и наша Церковь стала расти со скоростью снежной лавины.
Ситуация начала выходить из-под контроля, и традиционные церкви снова принялись обвинять нас в том, что мы крадем у них прихожан. Мне это казалось несправедливым. Я никого не принуждал слушать мои службы и посещать нашу Церковь. Если я прогонял людей через парадную дверь, они возвращались через черный вход. Если я запирал двери, люди перелезали через забор. Я просто не мог остановить их! Более всего эта ситуация озадачивала администрации университетов Ихва и Ёнсе, которые пользовались поддержкой христианских фондов и поэтому не могли оставаться в стороне и спокойно смотреть, как их студенты и преподаватели в массовом порядке перетекают в другую религиозную группу.
Два университета исключают своих студентов и увольняют профессоров
Университет Ёнсе и женский университет Ихва оказались в кризисной ситуации и в конце концов приняли меры, которые не принимались ни до, ни после этого случая. Ихва уволил пятерых профессоров, включая профессора Ким Ён Ун, и исключил четырнадцать студенток, пятеро из которых заканчивали последний курс. Ёнсе также уволил одного профессора и исключил двоих студентов.
Священник университета Ихва пытался уговаривать студенток: «Вы можете снова ходить в ту Церковь после того, как получите диплом, и тогда наш университет избежит неприятностей». Однако уговоры не действовали — напротив, эффект был прямо противоположным.
Исключенные студенты пытались было протестовать: «В нашем вузе учатся даже атеисты и дети самых настоящих шаманов! Как вы можете оправдывать наше исключение и тем самым лицемерно попустительствовать двойным стандартам?»
Однако администрации вузов выдержали натиск и продолжали стоять на своем: «Мы — частное учебное заведение под патронажем христианской церкви, и мы имеем право исключать любых студентов по нашему усмотрению».
Вскоре информация об инциденте просочилась в прессу, и одна из газет опубликовала статью под заголовком: «В стране, где заявлена свобода вероисповедания, увольнения и исключения недопустимы!» После этого ситуация стала предметом бурных обсуждений среди широкой общественности.
Поскольку университет Ихва существовал за счет финансовых вложений канадского христианского фонда, университетская администрация опасалась, что финансирование прекратится, как только в фонде станет известно о том, что большая часть студентов присоединилась к Церкви, которую все считают еретической. В университете трижды в неделю стали проводиться богослужения, во время которых составлялись списки участников и отсылались в главный офис миссионерской деятельности.
После отчисления студентов и увольнения профессоров общественное мнение склонилось в нашу сторону. И тогда администрация Ихва, желая как-то повлиять на ситуацию, стала распространять лживые слухи — слишком гнусные, чтобы их повторять. К сожалению, как это часто бывает, чем грязнее были слухи, тем с большим удовольствием люди смаковали их и передавали друг другу в полной уверенности, что все это правда. В конечном итоге слухи начали подпитывать сами себя и жить своей собственной жизнью. Нашей Церкви пришлось терпеть все это год и даже больше.
Я не хотел, чтобы эта проблема до такой степени вышла из-под контроля. Мне вообще не хотелось создавать какие-либо проблемы, и я попытался убедить студентов и профессоров вести простую и спокойную жизнь в вере, объясняя им, что нет никакой необходимости сбегать из общежитий и таким образом привлекать к себе негативное внимание общества. Но люди были непреклонны: «Почему вы просите нас не приходить сюда? Мы хотим получить столько же благодати, сколько и все остальные!» В итоге они вынуждены были расстаться с учебой, и я был не в восторге от этого...
После отчисления из университета студенты собрались вместе и отправились в молитвенный зал на гору Самгак на окраине Сеула, чтобы хоть как-то залечить глубокие душевные раны. Их выгнали из университета, их семьи разгневались на них и друзья больше не хотели с ними общаться. Им было некуда идти. Тогда они стали поститься и молиться с таким отчаянием, что во время молитвы от рыданий у них текло из глаз и из носа. Некоторые даже заговорили на разных языках.
Воистину, Бог является тогда, когда мы доходим до грани отчаяния и вот-вот падем духом. И студенты, изгнанные из университета, из дома и из общества, встретили Бога в молитвенном зале на горе Самгак...
Я тоже ходил на гору Самгак, чтобы принести поесть студентам, истощенным постами, и как-то утешить их.
«Это действительно ужасно, что вас отчислили ни за что, — говорил я им. — Но это не повод для того, чтобы уморить себя постами! Если ваша совесть чиста и вы уверены, что все сделали правильно, значит, никакие оскорбления для вас не будут позором. Не расстраивайтесь и наберитесь терпения: придет и ваше время!»
Пятеро из несостоявшихся выпускниц смогли перевестись в женский университет Сунмён, но ущерб от инцидента был весьма ощутимым.
Именно после этого случая моя репутация очень сильно пострадала. Всю ответственность за злодеяния, совершаемые в других религиозных группах, газеты стали приписывать нам. И если после первой волны слухов люди спрашивали: «Неужели это может быть правдой?» — то теперь они были убеждены: «Да, это правда!»
Очень больно и горько чувствовать такое несправедливое отношение к себе. Несправедливость была столь чудовищной, что она всколыхнула во мне волну гнева. Мне так хотелось выступить и опровергнуть все обвинения! Однако я не сказал ни слова и даже не пытался бороться. Нам предстояло слишком много дел, и у нас не было времени на борьбу и конфликты.
Я был уверен, что со временем и недопонимание, и ненависть сойдут на нет и что нам не стоит тратить слишком много нервов и сил на борьбу с этим. Я притворялся, будто не слышу, как люди говорят обо мне: «Хоть бы этого Муна поразило молнией!» — и пытался не обращать внимания на то, как христианские священники молят Бога о моей смерти.
Однако вместо того чтобы утихнуть, слухи стали множиться и становиться все более оскорбительными день ото дня. Казалось, весь мир объединился против меня и теперь тычет пальцем в мою сторону, пытаясь обвинить во всех смертных грехах. На фабрике Хыннам даже в самый разгар жары я не закатывал штаны, чтобы никто не видел моих голеней, а теперь слухи обвиняли меня в том, что я танцую в Церкви нагишом! Дошло до того, что новички, приходившие к нам в первый раз, стали многозначительно поглядывать на меня, словно спрашивая: «Это вы обычно раздеваетесь и танцуете голым?»
Я понимал лучше, чем кто-либо, что для того, чтобы непонимание рассеялось, необходимо время, поэтому даже не пытался спорить с ними и доказывать, что я не такой. Мы не можем узнать человека, пока не встретимся с ним лично, однако слишком многие без колебаний осудили меня, ни разу не встретившись со мной. Я знал, что спорить с такими людьми бесполезно, поэтому просто молчал и терпел.
Из-за инцидента с университетами Ихва и Ёнсе наша Церковь оказалась на краю гибели. К моему имени намертво приклеился ярлык «псевдорелигии» и даже «секты», и традиционные церкви объединили усилия, чтобы призвать правительство наказать меня.
4 июля 1955 года полиция провела облаву в нашей Церкви и арестовала меня и еще четверых прихожан — Ким Вон Пхиля, Ю Хё Ёна, Ю Хё Мина и Ю Хё Вона. Пасторы и старейшины традиционных церквей объединили усилия с властями, забросав их письмами с просьбой закрыть нашу Церковь. Четверо членов Церкви, следовавших за мной с самого начала, оказались вместе со мной в тюрьме.
Однако на этом дело не закончилось. Полиция изучила мое прошлое и выдвинула против меня обвинение в уклонении от исполнения воинской обязанности. Обвинение было притянуто за уши, ведь к тому времени, как я освободился из лагеря смерти Хыннам и отправился на Юг, я уже вышел из призывного возраста — и, тем не менее, обвинение было предъявлено.
Даже на обожженных ветвях проклюнутся свежие ростки
Следователи Особого секретного отдела органов правопорядка, проведя облаву в нашей Церкви, арестовали меня и отвезли в полицейский участок Чанбу. Я был возмущен обвинением в уклонении от службы в армии, но не промолвил ни слова. Я мог бы многое сказать, но мне просто не дали открыть рта.
Кое-кто, видя, что я молчу в ответ на несправедливость, называл меня слабаком. Я и это пропускал мимо ушей, будучи уверен, что подобные оскорбления — не что иное, как очередные испытания, ниспосланные свыше. Если я должен пережить их ради достижения цели, значит, так тому и быть. Поскольку мой путь был предельно ясен, я не мог потерпеть поражение. И чем больше ожесточались мои преследователи, тем упорнее я стремился в своих поступках проявлять больше благородства, чем кто-либо другой.
Стоило мне принять такое решение, как полиция уже не могла со мной ничего поделать. Когда следователь писал свой отчет, я подсказывал ему, как лучше написать.
«Почему бы вам не упомянуть здесь об этом? — говорил я. — А тут напишите так и вот так». И он делал так, как я ему говорил. Каждая фраза из тех, что я посоветовал, была верной, но когда следователь прочел весь текст целиком, он обнаружил, что вывод, который напрашивался из текста, был совершенно противоположен тому, что он планировал написать. Тогда он разозлился и порвал отчет.
13 июля 1955 года, на шестой день моего пребывания в полицейском участке Чанбу, я снова оказался в тюрьме. На сей раз это была тюрьма Содэмун в Сеуле. Меня сковали наручниками, но я не чувствовал ни стыда, ни сожалений. Жизнь в тюрьме не могла стать для меня преградой. Она вызвала во мне бурю негодования, но никак не могла стать препятствием на пути. Для меня это была возможность лучше подготовиться к будущей деятельности. И я преодолевал трудности тюремной жизни, говоря себе: «Смерть в тюрьме — это не для меня. Я здесь не умру! Тюрьма — это трамплин, который поможет мне совершить прыжок в мир полного освобождения».
Этот закон действует как на земле, так и на небесах: зло рано или поздно отступит и погибнет, а добро возвысится и будет процветать. Даже если я окажусь в куче дерьма, я не пропаду, если сохраню при этом чистоту сердца. Когда меня уводили в наручниках, проходившие мимо женщины косо взглянули на меня и осуждающе скривились. По их лицам явно читалось, каким нелепым я выгляжу в их глазах, ведь я, по их мнению, был предводителем какой-то развратной секты. Но я не чувствовал ни страха, ни стыда. Какими бы гнусными ни были оскорбления в мой адрес и в адрес Церкви, они не могли меня сломить.
Разумеется, у меня, как и у всех людей, есть чувства. И если внешне я всегда сохранял достоинство, внутри у меня порой кипели едва сдерживаемые эмоции, и я ощущал горечь до мозга костей. Каждый раз, чувствуя, что вот-вот дам слабину, я терпел и говорил себе: «Я не тот, кому суждено умереть в тюрьме. Я снова встану на ноги! Я в этом уверен». Моя решимость удваивалась, и я твердил снова и снова: «Я принимаю всю боль на себя и несу бремя, свалившееся на нашу Церковь».
Было вполне естественно ожидать, что мое заключение положит конец нашей Церкви и прихожане разойдутся на все четыре стороны. Однако вместо этого члены Церкви стали навещать меня каждый день и даже иногда боролись за право навестить меня раньше других. Комната для свиданий открывалась в восемь утра, но мои прихожане собирались у ворот тюрьмы и выстраивались в очередь задолго до этого. Чем яростнее меня проклинали и чем сильнее я чувствовал одиночество, тем больше людей приходило проведать меня, подбодрить и поплакать обо мне.
А ведь я встречал их без особого восторга и даже отчитывал: «Зачем вы приходите сюда и поднимаете столько шума?» Но они все равно шли за мной и плакали. В этом выражались их вера и любовь. Они привязались ко мне не из-за моего умения гладко и красиво говорить. Они любили меня за ту любовь, которую чувствовали в глубине моего сердца. Они знали, какой я на самом деле. Даже умирая, я не смогу забыть моих прихожан, которые остались верны мне даже после того, как я предстал в наручниках перед судом. Я буду помнить, как они глотали слезы и горестно смотрели на меня, сидевшего на скамье подсудимых.
Тюремные охранники изумлялись сверх всякой меры. «Как этому человеку удалось свести с ума столько людей? — поражались они, глядя, как к тюрьме подходят все новые и новые толпы народу. — Он ведь не муж им, а они — не его жена, и он не приходится им сыном. Почему же они так преданны ему?»
Как минимум однажды один из охранников заметил: «Нам говорили, что Мун — настоящий диктатор, эксплуатировавший людей, но ведь тут ясно как день, что это не так!» Этот охранник позднее присоединился к нашей Церкви и последовал за мной...
В конце концов, после трех месяцев заключения суд признал меня невиновным и отпустил на волю. В день освобождения начальник тюрьмы вместе с начальниками всех ее отделений устроил мне почетные проводы. За три месяца все они стали членами Семьи Объединения. Они действительно открыли мне свою душу, и причина тому была очень простой. Узнав меня ближе, они увидели, что я совсем не такой, каким представлялся по слухам. В итоге получилось, что ложные слухи, распространившиеся в обществе, помогли в нашей миссионерской работе!
Когда меня забирала полиция, все средства массовой информации и все общество раздули вокруг большую шумиху. Но когда меня признали невиновным и освободили, все молчали, будто воды набрали в рот. Единственным упоминанием о моей невиновности и последующем освобождении была крохотная заметка в три строки в самом дальнем углу газетного листа, гласившая, что «преподобного Муна признали невиновным и выпустили на свободу». Грязные слухи, породившие скандал на всю страну, оказались ложными, но этот факт благополучно затерли и забыли. Члены Церкви пытались протестовать и говорили мне: «Преподобный Мун, это же несправедливо! Все это до такой степени выводит нас из себя, что мы не можем больше терпеть». Они плакали передо мной, но я молчал и просто утешал их.
Я никогда не забуду ту боль, которая навалилась на меня вместе с ложными обвинениями. Но я терпел, даже когда против меня ополчилось столько людей, что казалось, будто мне нет места во всей Корее. Эти боль и печаль навсегда засели где-то глубоко, в самом дальнем уголке сердца.
Я был похож на дерево, покореженное ветрами и ливнями и опаленное пожаром, но я ни за что не позволил бы себе сгореть дотла и умереть. Даже на обгоревших ветвях по весне распускаются свежие почки. Если я буду продолжать свой путь со смирением и твердой убежденностью, однажды непременно наступит день, когда люди поймут ценность того, что я сделал.
Наши раны помогут нам стать сильнее
Люди не признавали новое выражение истины, которое я проповедовал, и называли его ересью. Иисус, рожденный на иудейской земле, точно так же был обвинен в ереси и распят на кресте. По сравнению с ним преследования, выпавшие на мою долю, были куда менее мучительными и несправедливыми. Я мог выдержать любую боль и любые издевательства над своим телом, но обвинения в ереси, выдвинутые против нашей Церкви, были более чем несправедливы, и выносить их было труднее всего.
Теологи, изучавшие ранние годы Церкви Объединения, называли наше учение незаурядным и систематичным, и некоторые даже были готовы принять его. Это говорит о том, что все споры по поводу ереси в нашей Церкви имели под собой не только теологическую основу. Главная причина коренилась в борьбе за власть и сферу влияния.
Большинство прихожан до присоединения к нашей Церкви посещали другие церкви, и это стало главной причиной того, что традиционные церкви отнеслись к нам как к врагам. Когда к нам в Церковь пришла профессор Ихва Ян Юн Ён, ее вскоре забрали в полицию на допрос, и там она узнала, что около восьмидесяти христианских священников разослали письма властям с критикой Церкви Объединения. Это произошло не потому, что мы сделали что-то плохое. Дело в том, что в нас видели угрозу для власти определенных людей и организаций, и только неясные страхи и крайняя фракционность побудили их начать преследования нашей Церкви.
Церковь Объединения и ее новое учение привлекали множество людей из самых разных религиозных групп. Порой я говорил своим прихожанам: «Зачем вы пришли сюда? Возвращайтесь в свои церкви» — и чуть ли не пугал их, пытаясь прогнать прочь. Но они очень скоро возвращались. Люди, собиравшиеся у нас в Церкви, не хотели больше никого слушать. Они не слушали ни своих учителей, ни родителей — только меня. Я не платил им денег и не кормил их, но они верили моему учению и продолжали приходить.
Они делали это потому, что я помог им избавиться от разочарования и неудовлетворенности. Пока я не узнал истину, я тоже чувствовал неудовлетворенность и был разочарован. Я чувствовал разочарование, глядя на небеса и на окружающих меня людей, и поэтому понимал, какими разочарованными приходили люди в нашу Церковь. У них было множество вопросов о жизни, на которые они не находили ответов, а Божье Слово, которому я учил, давало очень ясные ответы на все вопросы. Молодежь, встречавшая меня, находила ответы в моем учении, поэтому люди охотно приходили к нам в Церковь и присоединялись к моему духовному пути, каким бы трудным он ни был.
Я — человек, который находит путь и открывает его для других. Я веду людей по этому пути, чтобы соединить разбитые семьи и восстановить общество, страну и мир, чтобы в конечном итоге мы все вместе вернулись к Богу. Люди, приходя ко мне, понимают это и хотят отправиться вместе со мной на поиски Бога. Как можно осуждать нас за это? Мы всего лишь искали Бога, но за это нас подвергали самым разным гонениям и критике.
К сожалению, пока вокруг нашей Церкви разгорались дебаты и нас обвиняли в ереси, моя жена еще больше усложнила мое положение. После нашей встречи в Пусане она при поддержке своих родственников потребовала, чтобы я либо немедленно бросил Церковь и вернулся к ней и сыну, либо развелся с ней. Они даже пришли ко мне в тюрьму Содэмун и положили передо мной заявление на развод, требуя, чтобы я подписал его. Я знал, как важен брак для построения Божьего гармоничного мира, поэтому промолчал и не стал ничего подписывать.
Тогда моя жена начала грубо оскорблять членов Церкви и преследовать их. Сам я мог вытерпеть что угодно. Меня не могли обидеть ни ее оскорбления, ни безрассудное отношение ко мне, но я не мог спокойно смотреть, как она обижала моих прихожан. Она могла в любое время ворваться в помещение Церкви и устроить погром, накричать на людей и забрать с собой что-нибудь из церковного имущества. Она даже кидалась в людей горшками, полными испражнений. Стоило ей прийти, и мы уже не могли продолжать службу. В конечном итоге, выйдя из тюрьмы Содэмун, я уступил требованиям ее семьи и подписал документ о разводе. Я был вынужден развестись с ней вопреки своим собственным принципам...
Когда я думаю о бывшей жене, я чувствую, как мое сердце все еще тянется к ней. Влияние ее семьи, где все были убежденными христианами, а также политика традиционных корейских церквей во многом повлияли на ее поведение. До нашего бракосочетания она была такой убежденной, такой твердой в своей решимости! То, как она изменилась, говорит о том, насколько опасной может быть сила общественного предубеждения и устоявшихся концепций...
Мне пришлось пережить и боль развода, и горечь из-за того, что меня заклеймили еретиком. Но я не сломался. Мне нужно было вытерпеть все это на пути искупления первородного греха человечества и на пути к построению Божьего Царства. Тьма обычно сгущается перед самым рассветом, но я преодолел эту тьму, прижавшись к Богу и обратив к Нему свои молитвы. Все дни, кроме редких часов сна, я проводил в молитве.
Искренность души важнее всего
Спустя три месяца меня признали невиновным и отпустили на свободу. И я ощутил сильнее, чем когда-либо, сколь велик мой долг перед Богом. Чтобы вернуть Ему долг, я стал искать место, где наша Церковь могла бы начать все заново. Но я не просил Бога в молитвах: «Боже, построй нам церковь!», никогда не жаловался и не чувствовал стыда зато, что наша Церковь ютилась в таком крошечном и убогом домишке. Я был благодарен уже за то, что у нас есть где помолиться, и не мечтал о более просторных и удобных хоромах.
И все же нам требовалось место, где собирались бы на службу все прихожане, поэтому мы взяли в долг два миллиона вон и купили домик в бедном квартале на склоне горы в Чхонпхадон. Это был один из тех домов, которые называли «вражеской собственностью», поскольку они пустовали с тех пор, как их покинули японцы после освобождения Кореи от колониальной зависимости. Это был маленький домик площадью не более 65 квадратных метров, расположенный в самом конце длинной и узкой улочки, поэтому, подходя к нему, вы словно оказывались в длинном и темном туннеле. Все стены дома были так сильно заляпаны грязью, что мы могли лишь гадать, что тут происходило до нас. Нам с молодежью пришлось вооружиться чистящим порошком и четыре дня отмывать и отскабливать дом сверху донизу.
После переезда церкви в Чхонпхадон я почти не спал. Я сидел в спальне на полу, скорчившись и погрузившись в молитву, до трех-четырех часов утра, а потом спал до пяти, вставал и принимался за повседневные дела. Я продолжал так жить в течение семи лет. Хотя я спал час или два в сутки, днем я никогда не был сонливым, и мои глаза ярко сияли, словно утренние звезды. Я никогда не чувствовал усталости и не был утомлен.
У меня в голове всегда было столько планов и важных дел, что мне не хотелось терять времени даже на еду. Чтобы люди зря не тратили время, накрывая для меня на стол, я ел, сидя на полу и склонившись над тарелкой. «Прояви же свою посвященность! Пусть она бьет из тебя ключом, даже если хочется спать! Выкладывайся по полной, пока есть силы!» — вот что я твердил себе снова и снова. Я молился в самый разгар нескончаемых нападок и ложных обвинений и думал, что таким образом сею семена, которые когда-нибудь взойдут и принесут обильный урожай. Если урожая не будет в Корее, то я не сомневался, что он непременно созреет где-нибудь в другой стране мира.
Через год после моего освобождения из тюрьмы в нашей Церкви было уже четыреста членов. И когда я молился, я повторял их имена одно за другим. Их лица возникали у меня перед глазами еще до того, как я называл их по имени. Кто-то из них плакал, а кто-то смеялся. Через молитву я мог почувствовать, как обстоят дела у каждого человека и не заболел ли он.
Иногда, произнося их имена во время молитвы, я вдруг ясно чувствовал, что именно этот человек придет сегодня в Церковь. И он действительно приходил! Или я мог пойти и навестить того, о чьей болезни узнавал через молитву, и он действительно оказывался болен. Прихожане изумлялись тому, как я догадывался об их недугах, ведь они ничего мне не говорили; но когда они спрашивали, как я это делаю, я лишь молча улыбался в ответ.
Нечто похожее произошло, когда мы готовились к Церемонии Благословения. Перед Церемонией я спросил каждого жениха и каждую невесту, сохранили ли они целомудрие. Один из кандидатов в ответ на мой вопрос громко и уверенно заявил, что сохранил его. Тогда я повторил вопрос, и он снова ответил утвердительно. В конце концов, я спросил его об этом в третий раз и получил тот же самый ответ.
Тогда я заглянул ему в глаза и спросил:
— Ты проходил военную службу в Хвачхоне, в провинции Канвон, так ведь?
— Да, — ответил он, и в голосе уже чувствовался страх.
— У тебя был короткий отпуск, и ты отправился в Сеул и остановился там в гостинице, верно? В ту ночь ты переспал с женщиной, носившей красную юбку. Я знаю все, что ты совершил. Зачем ты лжешь мне?
Я разгневался на того человека и прогнал его с Церемонии Благословения. Если вы смотрите на мир широко открытыми глазами души, вы увидите все — даже то, что сокрыто от вас.
Некоторых людей в нашу Церковь привлекало не столько учение, сколько такие вот сверхъестественные явления. Многие думают, что духовная сила важнее всего, однако подобные явления, именуемые чудесами, слишком сильно сбивают людей с толку. Если вера зиждется на необъяснимых или сверхъестественных явлениях, это нездоровая вера. Любой грех можно восстановить только с помощью искупления. Это нельзя сделать, полагаясь лишь на духовную силу. Вот почему по мере становления Церкви я перестал рассказывать прихожанам о том, что видел глазами души.
Тем временем люди продолжали приходить. Сколько бы людей ни собиралось — десятки или целые сотни, — я относился к ним так, словно передо мной всего один человек. Я всегда с готовностью выслушивал каждого, кто хотел рассказать о себе. Кто бы это ни был, я внимательно слушал всех — и бабушку, и молодого парня, — словно кроме них у меня больше никого не было. Все мои прихожане говорили с уверенностью: «Никто во всей Корее не умеет слушать так, как преподобный Мун». Какая-нибудь старушка могла начать свой рассказ с того момента, как она вышла замуж, и закончить перечислением болезней своего мужа.
Я так люблю слушать, как люди рассказывают о себе! Когда они открывают мне душу и рассказывают о жизни, время для меня летит незаметно. Я могу слушать их по десять и даже двадцать часов кряду. Если человек хочет выговориться, значит, для него это очень важно. Таким образом люди пытаются найти решение своих проблем, и я чувствую, что должен внимательно выслушать их. Проявляя искренний интерес к жизни другого человека, я могу тем самым выразить свою любовь к нему и вернуть свой собственный долг перед жизнью. Очень важно ценить жизнь как величайшую драгоценность. С тем же рвением, с которым я слушал людей, я искренне делился с ними своими переживаниями и молился за них в слезах.
Сколько раз я молился и плакал всю ночь напролет! Доски пола, на котором я сидел, были так сильно пропитаны моими слезами, что никогда не просыхали.
Спустя несколько лет, когда я был в Соединенных Штатах, мне сообщили о том, что наши прихожане собираются обновить здание Церкви в Чхонпхадоне. И я немедленно выслал им телеграмму с требованием, чтобы они прекратили все работы. Да, эта церковь воплощает собой навсегда утраченный период моей жизни, но, помимо этого, она может поведать об истории нашей Церкви. Как бы красиво ее ни перестроили, в чем смысл этого, если вся история Церкви Объединения будет уничтожена? Главное — это не внешняя красота и не ухоженность здания, а все те невидимые глазу слезы, что были пролиты в нем. Дом может не отвечать чьим-то вкусам или стандартам, но этот дом — само воплощение традиции, и в этом — его ценность. Если люди не уважают свои традиции, их неминуемо ждет крах.
Сами стены церкви в Чхонпхадоне дышат историей и насквозь пропитаны ею. Глядя на какой-нибудь выступ стены, я вспоминаю, как прижимался к нему и о чем рыдал в ту минуту. И когда я гляжу на этот выступ, у которого плакал когда-то, я снова начинаю плакать. Даже слегка скособоченный дверной проем напоминает мне о пережитом. А теперь все полы поменяли, и старых досок уже давным-давно нет. Тех самых досок, на которых я столько раз сидел, скорчившись и плача взахлеб... Их уже нет, и следы моих слез исчезли навсегда. А ведь мне так нужна память о той боли! Не беда, если дом стоит без ремонта и вся обстановка устарела. С тех пор прошло много лет, и теперь у нас множество филиалов Церкви с отличной планировкой и интерьером. Но мне гораздо сильнее хотелось прийти и помолиться в тот маленький домик в Чхонпхадоне. Мне было там гораздо спокойнее...
Я прожил всю свою жизнь, молясь и проповедуя, но даже сейчас я очень волнуюсь, выходя к аудитории. Ведь если вы занимаете положение, позволяющее вам говорить с людьми на общественные темы, значит, в ваших силах спасти этих людей или дать им погибнуть. Для меня это вопрос исключительной важности — помочь тем, кто услышит мое слово, встать на путь, ведущий к жизни. В такие моменты я буквально провожу черту между жизнью и смертью.
Даже сейчас я не готовлюсь к службам заранее, чтобы не привносить в них своих личных целей или ожиданий. После такой подготовки я могу передать людям лишь знания, накопленные в голове, но никак не чувства, исполненные искренности и страсти. Перед тем как выйти на проповедь, я старался выразить свою посвященность, уделяя молитве как минимум десять часов. Это помогло мне углубить свои корни. Даже если листва на большом и мощном дереве слегка объедена гусеницами, оно не погибнет, если его корни достаточно глубоки. Мои слова порой могут показаться чересчур прямолинейными, но люди поймут меня, если я вложу в них всю искренность своего сердца.
Во времена ранней Церкви я носил старый американский военный китель и рабочую робу, выкрашенную в черный цвет. Когда я проповедовал, с меня ручьями стекал пот и лились слезы. Не проходило ни дня, чтобы я не рыдал в голос. Мое сердце было переполнено эмоциями, и из глаз потоками лились слезы, сбегая вниз по щекам. В такие моменты моя душа, казалось, вот-вот покинет тело. Я чувствовал, что нахожусь на волоске от смерти. Моя одежда была насквозь пропитана потом, и пот ручьями тек у меня со лба.
В те времена, когда наша Церковь располагалась в Чхонпхадоне, всем нам приходилось очень нелегко, но Ю Хё Вону выпало особенно тяжкое испытание. У него были проблемы с легкими, однако он в течение трех лет и восьми месяцев читал лекции о нашем учении по восемнадцать часов в сутки, несмотря на боли и недомогания. Мы не могли позволить себе хорошо питаться и ели не чаще двух раз в день, подавая к столу ячмень вместо риса, единственной добавкой к которому был полусырой кимчхи однодневной закваски.
Ю Хё Вон очень любил мелкие соленые креветки. Он ставил банку с креветками в угол комнаты и время от времени подходил к ней с палочками и брал штучку-другую. Это помогало ему пережить тяжелые времена. Мне было так больно смотреть, как Ю Хё Вон ложился на пол и лежал там совершенно истощенный, голодный и уставший! Я очень хотел накормить его солеными мидиями, но в те времена это было для нас слишком дорого. Мне и сейчас больно вспоминать о том, как тяжело ему приходилось, когда он, совершенно больной, пытался записать мои выступления, что лились и лились бесконечным потоком.
Благодаря усердному вкладу и жертвам прихожан наша Церковь продолжала расти. Тогда у нас и появилась ассоциация школьников Сонхва, в которую входили ученики средних и старших классов. Они решили отдавать нашим миссионерам школьные обеды, которые они приносили с собой из дома, чтобы миссионеры могли нормально поесть. Школьники даже составили расписание, когда и кто должен был отдать свой обед. Все проповедники знали, что кто-то из детей сегодня не поест и останется голодным, и не могли без слез есть эту пищу. Искренняя посвященность детей производила гораздо большее впечатление, чем сами обеды, и мы удвоили свою решимость выполнить волю Бога, даже если для этого понадобилось бы отдать жизнь.
Это было нелегкое время, и все же мы отправили нескольких миссионеров в разные уголки Кореи. Несмотря на то, что наши члены очень хотели рассказать о своей принадлежности к Церкви Объединения, из-за целого шквала гнусных слухов они не могли этого сделать. Они отправлялись в деревушки, подметали там улицы и предлагали свою помощь тем, кто в ней нуждался. По вечерам миссионеры организовывали кружки, в которых учили людей грамоте и рассказывали о Слове Бога. Они помогали людям в течение нескольких месяцев и заслужили их доверие, благодаря чему наша Церковь продолжала расти. Я никогда не забуду тех наших членов, которые очень хотели пойти учиться в колледж, но вместо этого решили остаться со мной и посвятить свою жизнь Церкви.