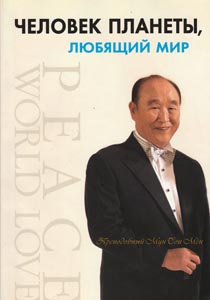Глава 2. Слезы, потоком льющиеся из сердца.
Содержание
- На перепутье между страхом и вдохновением
- Любите тем сильнее, чем нестерпимее боль
- Если кинжал не затачивать, он со временем заржавеет
- Ключ к открытию величайшей тайны
- Граната с выдернутой чекой
- Подружиться с рабочими, разделив с ними их страдания
- Море безмятежной любви
- Пожалуйста, не умирай
- Приказ, которому нельзя не подчиниться
- Рисовое зернышко, ставшее дороже целого мира
- Тюрьма Хыннам, запорошенная снегом
- Вооруженные силы ООН открывают ворота тюрьмы
На перепутье между страхом и вдохновением
Становясь старше, я начал задаваться вопросом: кем я стану, когда вырасту? Мне нравилось наблюдать за природой и изучать ее, и я думал о том, что неплохо было бы стать ученым. Однако затем я передумал, увидев, как японские колониальные власти зверски грабят и разоряют народ. Люди страдали так отчаянно, что не могли даже прокормить себя. Я понял, что в качестве ученого – даже если я получу при этом Нобелевскую премию – я все равно не смогу облегчить участь страдающего народа.
И тогда я захотел стать тем, кто осушит слезы, текущие из глаз людей, и утешит их страдающее сердце. Лежа на траве в лесу и слушая пение птиц, я размышлял: «Как было бы хорошо, если бы наш мир стал таким же теплым и ласковым, как эти песни! Я должен помочь людям расцвести и стать прекрасными и ароматными, как цветы». Я не знал, какая профессия подойдет мне для этого, но был твердо убежден, что должен стать человеком, который принесет людям счастье.
Когда мне исполнилось десять лет, моя семья приняла христианство благодаря брату моего дедушки Мун Юн Гуку, который был священником и вел искреннюю жизнь в вере. С тех пор я начал активно посещать церковь, не пропуская ни недели. Если я опаздывал хотя бы на пару минут, мне было так стыдно, что я не мог поднять лица. Я не знаю, что именно вдохновило меня в столь юном возрасте на такое отношение, но к тому времени Бог уже был неотъемлемой частью моей жизни. Я все серьезнее задумывался над вопросами жизни и смерти, а также над причинами страданий и горестей человечества.
Когда мне исполнилось двенадцать, я стал свидетелем перезахоронения останков моего прадеда. Обычно такие события посещают лишь взрослые члены семьи, но мне так хотелось узнать о том, что же происходит с людьми после смерти! И я упросил родителей взять меня с собой. Когда могилу раскопали и вынули останки, мне стало плохо от ужаса. После того, как взрослые провели торжественную церемонию и вскрыли могилу, в ней оказался лишь тощий скелет. Он ни капельки не был похож на моего прадеда, каким его описывали мама с папой. Там не было ничего, кроме жутких побелевших костей.
Я не сразу отошел от шока при виде прадедушкиных останков. И это заставило меня задуматься: «Мой прадед выглядел так же, как и мы. Но ведь это значит, что и мои родители после смерти превратятся в груду побелевших костей? И меня самого ждет такая же участь? Да, все люди умирают, но что происходит потом? Неужто они лежат вот так и не думают ни о чем?» Эти вопросы не выходили у меня из головы.
В те времена у нас дома начали происходить странные вещи. Я очень хорошо помню один такой случай. Когда в нашей семье ткали ткани, мы вытаскивали из прялки обрывки ниток и складывали их в глиняный горшок, пока не набиралось достаточно ниток для полноценного рулона ткани. Из этих обрывков мы ткали йеджан – особую ткань, которая служила приданым для детей, вступающих в брак. Так вот, однажды вечером мы обнаружили, что все эти нитки развешаны на старом каштане в соседней деревне! Из-за них дерево стало почти белым. Мы не могли понять, кому понадобилось стащить эти нитки из горшка, отнести их к каштану, росшему в соседней деревне (расстояние весьма неблизкое, кстати!), да еще и развесить их по всему дереву. Нам показалось, что все это не могло быть проделано руками человека, и это напугало всю деревню.
Когда мне исполнилось шестнадцать, у нас в семье произошла трагедия – за один год умерло пять моих младших братьев и сестер. Горе моих родителей, потерявших пятерых из тринадцати детей за столь короткое время, просто невозможно описать... Смерть косила всех подряд, и даже у соседей полег весь скот. В доме по соседству в одночасье околела совершенно здоровая корова, а в другом доме одна за другой умерло несколько лошадей. Еще в одном доме за ночь умерло семь свиней.
Казалось, что страдания одной семьи тесно переплетены со страданиями всей страны и даже мира. Это было невыносимо – видеть отчаяние корейского народа под нарастающим тираническим гнетом японской оккупации. Людям было нечего есть, поэтому им приходилось рвать траву и обдирать кору с деревьев, чтобы сварить все это и хоть как-то наесться. Казалось, что войне, охватившей мир, не будет конца. К тому же в одной из газет я прочел о самоубийстве школьника-подростка, который был моим ровесником...
«Зачем он умер? – спрашивал я себя. — Что заставило этого парня наложить на себя руки в столь юном возрасте?» Эта новость все перевернула во мне, словно это случилось с близким мне человеком. Я прорыдал над газетой, раскрытой на этой статье, три дня и три ночи подряд. Я все плакал и плакал и просто не мог остановиться...
Я не мог понять причину всех этих странных событий, а также то, почему трагедии обычно случаются с хорошими людьми. Мне довелось увидеть кости моего прадеда, и это зрелище побудило меня задаться множеством вопросов о жизни и смерти, а целая череда необычных явлений у нас дома и по соседству заставила меня еще глубже обратиться к религии. Однако Слово Бога, которое я слушал в церкви, не могло дать исчерпывающие ответы на мои вопросы. И для того, чтобы освободиться от чувства неудовлетворенности и разочарования, я стал уделять более глубокое внимание молитве.
«Кто я такой? Откуда я появился? Какова цель жизни? И что происходит с людьми после смерти? Существует ли мир для наших бессмертных душ? А Бог – на самом ли деле Он есть на свете? И Он действительно такой всемогущий? Если да, то почему Он просто стоит и наблюдает за всеми ужасами, что творятся в мире? Если Бог создал мир, значит ли это, что Он создал и страдания в нем? Как положить конец японской оккупации Кореи? В чем смысл страданий корейского народа? Почему люди ненавидят друг друга, борются и разжигают войны?» Мое сердце было буквально переполнено серьезными и глубокими вопросами, затрагивающими самую суть. Никто не мог дать мне на них простой ответ, поэтому единственное, что мне оставалось – это молиться. В молитве я чувствовал утешение. Стоило мне выложить все эти мучительные проблемы перед Богом, как все мои страдания и горести тут же отступали и я чувствовал себя лучше. И тогда я стал молиться все больше и больше – так, что порой мог молиться всю ночь напролет. И однажды со мной случилось нечто невероятное – совершенно бесценное переживание, когда Бог ответил мне на мои молитвы. Этот день я буду помнить всю жизнь как свое самое лучшее воспоминание. Я его никогда не забуду...
Это была ночь накануне Пасхи, в год, когда мне исполнилось шестнадцать. Я провел всю ночь на горе Мьоду, молясь Богу и со слезами умоляя Его ответить мне. Почему Он создал мир, где так много горя и отчаяния? Почему всеведущий и всемогущий Бог бросил мир в такой беде? Что я могу сделать для своей несчастной родины? Я рыдал взахлеб и твердил эти вопросы снова и снова.
И тогда рано утром в пасхальное воскресенье, после ночной молитвы ко мне явился Иисус. Он появился в одно мгновение, словно с порывом ветра, и произнес: «Бог чувствует глубочайшую боль из-за страданий человечества. И ты должен взять на себя особую миссию и выполнить на земле Божий труд».
В тот день я очень ясно увидел печальное лицо Иисуса и услышал его голос. От переживаний этой встречи мое тело лихорадочно затряслось, словно лист осины на ветру. Меня тут же накрыло смертельным ужасом — таким, что я чуть не умер, — и вслед за ним захлестнула сумасшедшая благодарность, от которой я чуть не взорвался! Иисус очень ясно поведал о том, что мне предстоит сделать. Его слова потрясли меня до глубины души: он говорил об избавлении человечества от страданий и о том, как принести радость Богу.
Моей первой реакцией было: «Я не справлюсь. Ну как мне это выполнить? И почему ты вообще доверил мне столь важную миссию?» Я по-настоящему испугался. Мне так хотелось любыми способами избежать этой ответственности! И тогда я схватился за подол его одежды и безутешно разрыдался.
Любите тем сильнее, чем нестерпимее боль
Меня буквально раздирали противоречия. Я не мог рассказать об этом родителям и поделиться своей страшной тайной. Но и хранить ее в себе я тоже не мог. Я был растерян и не знал, что делать. Ясно было лишь одно: Небеса возложили на меня особую миссию.
Ответственность была колоссальная. Меня бросало в дрожь при одной мысли, что одному мне с ней не справиться. Я стал молиться еще отчаяннее, чем раньше, чтобы хоть как-то успокоить разброд в своей душе. Но это не помогало. Как бы я ни старался, я не мог ни на минуту забыть о встрече с Иисусом. Эта встреча изменила мою жизнь окончательно и бесповоротно. Скорбь Иисуса прожгла мое сердце подобно клейму, и я уже не мог думать ни о чем другом. С тех пор я с головой погрузился в изучение Божьего Слова. Временами меня окутывала непроглядная тьма, и я чувствовал такую боль, что не мог дышать. Но были и моменты, когда мое сердце переполнял восторг, словно при виде утреннего солнца, восходящего над горизонтом. В один из таких дней, пытаясь успокоиться и сдержать слезы, я сочинил вот это стихотворение:
Корона Славы
Когда я сомневаюсь в людях, я чувствую боль.
Когда я осуждаю их, это просто невыносимо.
Когда я ненавижу, моя жизнь теряет всякую ценность.
Но если я верю людям, они обманывают меня.
Если я люблю, меня предают.
Страдая и мучаясь в ночи, я буквально хватался за голову.
Разве я неправ?
Да, я неправ!
Даже если вас обманут — верьте!
Даже если предают — прощайте!
Любите всем сердцем даже тех, кто ненавидит вас.
Утрите слезы и встречайте с улыбкой
Тех, чья жизнь — сплошной обман,
И тех, кто предает без сожалений.
О Господь! Любить так больно!
Взгляни на мои руки,
Положи Свою руку мне на грудь.
Мое сердце разрывается от боли!
Но когда я полюбил своих гонителей,
Я одержал победу.
Если ты поступил точно так же,
Я подарю тебе Корону Славы.
Я пережил множество подобных дней, сменяющих друг друга, и это привело к тому, что я стал все глубже и глубже погружаться в мир молитвы. Я всем сердцем принял новые слова истины, открытой мне Иисусом, и меня полностью захватили отношения с Богом. Мой образ жизни совершенно изменился. Мне нужно было многое обдумать, и от этого я стал крайне молчаливым.
Каждый, кто следует по пути Бога, должен всем сердцем стремиться к выполнению своей цели и полностью посвятить себя ей. Такому человеку нужна непоколебимая целеустремленность. Я был весьма упрямым от рождения, и это добавляло мне недюжинного упорства. Я использовал дарованное Богом упорство, чтобы преодолевать трудности и следовать по заданному пути. Каждый раз, стоило мне засомневаться, как меня тут же приводила в чувство мысль о том, что я получил указания напрямую от Бога. Было нелегко выбрать этот путь, ведь для этого мне пришлось пожертвовать своей молодостью. И мне порой очень хотелось этого избежать...
Мудрый человек поставит перед собой цель, дающую надежду, и двинется вперед, к ее осуществлению, как бы трудно ему ни было. А глупец, наоборот, наплюет на будущее ради сиюминутных удовольствий. В юности я порой позволял себе глупые мысли, но в конечном итоге выбрал путь мудреца. Я с радостью посвятил свою жизнь цели, которую поставил передо мной Бог. Я не мог избежать этого пути, даже если бы захотел: это был единственный выбор, который я мог сделать.
Почему же Бог призвал меня? Даже сейчас, когда мне уже девяносто, я каждый день задаю себе этот вопрос. Почему из всех людей, живущих на земле, Он выбрал именно меня? Он сделал это не из-за моей выдающейся внешности, замечательных личных качеств или глубокой убежденности. Я был простым и неприметным, упрямым и глупым мальчишкой. Если Бог и мог что-то разглядеть во мне, то разве что искренность, побуждавшую меня искать Его, плача от любви. В любом месте и в любые времена самое главное — это любовь. Бог искал человека с сердцем, переполненным любовью, которая помогла бы ему преодолеть любые страдания. Я был простым деревенским мальчишкой, которому нечем похвастаться. И все же даже сейчас я без колебаний готов пожертвовать своей жизнью и посвятить ее любви Бога, и только ей одной.
Сам я ничего не знал и поэтому со всеми вопросами обращался к Богу. Я спросил Его: «Бог, Ты и вправду существуешь?» — и так узнал о том, что Он действительно существует. Потом я спросил: «Бог, а у Тебя есть какие-нибудь заветные желания?» — и благодаря этому узнал, что у Него такие желания есть. Затем я спросил Его: «Бог, я действительно нужен Тебе?» — и таким образом открыл, что у Него есть на меня определенные планы.
В те дни, когда я молился и возносил свою преданность Небесам, мне являлся Иисус и передавал особые послания. Если я очень-очень хотел что-нибудь узнать, Иисус с мягкой улыбкой давал мне правдивые ответы. Его слова всегда попадали в точку и, как стрелы, вонзались мне прямо в сердце. Это были не просто слова, а настоящие откровения о сотворении Вселенной, которые открыли для меня путь в новый мир. Когда Иисус говорил, его слова были похожи на легкий ветерок, но я серьезно обдумывал каждое слово и молился с таким отчаянием, что им можно было вырвать дерево с корнем. Постепенно передо мной начала вырисовываться новая картина цели творения Бога и принципов сотворения Вселенной.
В тот же год я посвятил все лето путешествиям по стране. У меня не было денег, поэтому я просто стучался к людям домой и просил что-нибудь поесть. Иногда мне улыбалась удача, и меня подвозил какой-нибудь грузовик. Так я побывал во всех уголках страны. Куда бы я ни отправился, я всюду видел, что моя родина стала настоящей юдолью горечи и слез. Передо мной непрерывной чередой проходили мучения людей, страдающих от голода. Их горестные стенания прорывались слезами, которые текли и текли бесконечным потоком.
И тогда я сказал себе: «Этот страшный период истории должен закончиться как можно скорее. Нельзя оставлять наш народ в страданиях и безысходности. Я должен найти способ добраться до Японии и Америки и рассказать всему миру о величии корейского народа».
Благодаря этому путешествию я с удвоенной решимостью взялся за свою миссию. Сжав кулаки, я сфокусировал свой разум и ясно увидел путь, который предстоял мне в жизни: «Я во что бы то ни стало спасу наш народ и сделаю все, чтобы на земле воцарился Божий мир».
Если кинжал не затачивать, он со временем заржавеет
После окончания начальной школы я уехал в Сеул и поселился в районе Хыксокдон, поступив в институт коммерции и индустрии Кёнсон.
Зимой в Сеуле было очень холодно. Температура опускалась до -20º по Цельсию, и тогда река Хан полностью замерзала. Дом, где я жил, располагался на горном перевале, и поблизости не было ни одного водоема с проточной водой. Поэтому мы брали воду из колодца, который был таким глубоким, что нам приходилось привязыватьверевку длиной более десяти метров, чтобы достать ведром до воды. Веревка постоянно рвалась, и я повесил ведро на цепь. Каждый раз, когда я вытаскивал ведро из колодца, ладони примерзали к цепи, и мне приходилось отогревать их своим дыханием.
Для борьбы с морозом мне пригодились все мои таланты в вязании. Я связал себе свитер, толстые носки, шапку и перчатки. Моя шапка была такой модной, что прохожие вполне могли принять меня за девушку.
Я никогда не отапливал свою комнату даже в жесточайшие холода — в основном из-за того, что у меня не было денег. Но еще я чувствовал, что возможность иметь крышу над головой — это уже роскошь по сравнению с тем, как живут бездомные люди, которым приходится искать любые способы согреться, ночуя прямо на улице. Однажды к вечеру так похолодало, что мне пришлось положить с собой под одеяло электролампу, словно бутыль с горячей водой, и ночью эта лампа сожгла мне кожу, которая потом облезла. Даже сейчас при одном упоминании о Сеуле я тут же вспоминаю, какой холодной была та зима.
В те времена мой рацион состоял из тарелки риса и одного дополнительного блюда, тогда как в Корее к рису обычно подавалось до двенадцати разных блюд. Я съедал всего одну тарелку риса и один какой-нибудь салат — и этого было достаточно. Даже сейчас из-за выработанной в те годы привычки я не добавляю к рису слишком много дополнительных блюд, предпочитая одно, но хорошо приготовленное. При виде стола, сплошь уставленного яствами, я просто теряюсь. Во время учебы в Сеуле я обходился без обеда, так как с детства привык довольствоваться завтраком и ужином, целыми днями гуляя в горах. И я продолжал так жить лет до тридцати.
Время, проведенное в Сеуле, помогло мне понять, как много нужно трудиться, чтобы поддерживать порядок в доме и вести хозяйство.
В 80-х годах я вновь побывал в Хыксокдоне и очень удивился, увидев, что домик, в котором я жил тогда, еще на месте. Сохранился и дом, и двор, где я развешивал белье для просушки. Только колодец, у которого я все время дышал на ладони, вытаскивая ведро, к сожалению, был заброшен.
Живя в Хыксокдоне, я придумал себе девиз: «Прежде чем владычествовать над Вселенной, научись в совершенстве владеть собой». Это значит, что сначала я должен был дисциплинировать собственное тело и лишь потом браться за спасение страны и мира. Я тренировался с помощью молитвы и медитации, а также занимался спортом и физическими упражнениями, и в результате выработал стойкость к голоду и к любым эмоциям и желаниям физического тела. Даже во время еды я твердил про себя: «Рис, я хочу, чтобы ты стал для меня хорошим топливом и помог мне выполнить задачи, к которым я себя готовлю». Я занимался боксом, играл в футбол и учился технике самозащиты. Именно поэтому я до сих пор сохранил молодую гибкость и подвижность, хотя со времен юности и набрал вес.
Согласно правилам в институте коммерции и индустрии Кёнсон, студенты убирались в аудиториях по очереди. И я решил, что буду сам каждый день убирать свою аудиторию. Для меня это не было наказанием: я делал это из искреннего желания любить свой институт больше, чем кто-либо другой. Сначала однокурсники пытались помогать мне, однако потом заметили, что я отношусь к этому без энтузиазма и предпочитаю убираться один, и в конце концов решили: «Ну хорошо, делай все сам, раз ты так хочешь». С тех пор уборка лежала исключительно на мне.
Я был необычайно тихим студентом. В отличие от однокурсников я не любил пустой болтовни и мог за целый день не вымолвить ни слова. Может быть, именно поэтому, хотя я никогда ни с кем не дрался, однокурсники относились ко мне с уважением и следили за своим поведением в моем присутствии. Если я шел в туалет и вставал в конец длинной очереди, меня тут же пропускали вперед. И если кто-то попадал в беду, чаще всего именно ко мне обращались за советом.
Во время занятий я постоянно задавал кучу вопросов, которые ставили в тупик большинство преподавателей. К примеру, когда мы изучали новую формулу по математике или физике, я тут же интересовался: «Кто открыл эту формулу? Пожалуйста, объясните ее подробнее, шаг за шагом, чтобы я мог хорошенько разобраться» — и не отступал, пока не получал четких ответов. Я постоянно третировал учителей тем, что копал все глубже и глубже. Я не мог принять ни одного принципа или закона, пока не разбирал его по полочкам и не понимал досконально. Частенько я ловил себя на мысли: «Как жаль, что эта замечательная формула открыта не мной!»
Упрямый характер, из-за которого я в детстве мог прореветь всю ночь напролет, проявлялся и во время учебы. Как и в молитву, я полностью погружался в учебу, отдавая ей все свое время и силы.
Любая задача требует от нас искренности и целеустремленности, причем не на день или два. Вклад должен быть постоянным. Если нож использовать лишь однажды и больше не трогать, он заржавеет. То же касается и искренности с целеустремленностью. Нам нужно ежедневно прикладывать усилия с мыслью о том, что мы тем самым оттачиваем свой кинжал. Какой бы трудной ни была наша задача, если мы будем постоянно прилагать усилия, то достигнем мистических высот. И тогда, если вы возьмете в руку кисть и сконцентрируете на ней всю свою искренность и целеустремленность, а потом произнесете: «Сейчас сюда явится великий художник и направит мою руку», совместными усилиями вы создадите прекрасную картину, которая воодушевит весь мир.
Еще я работал над тем, чтобы научиться говорить быстрее и четче остальных. Я запирался в маленькой комнатке, где меня никто не слышал, и громко повторял сложные скороговорки, а также пытался быстро-быстро выпалить все, что хотел сказать. В результате я научился произносить десять слов, пока другие произносили одно. Даже сейчас, в преклонном возрасте, я могу говорить очень быстро. Кое-кто утверждает, что из-за быстроты моей речи меня трудно понять, но я так тороплюсь жить, что не могу позволить себе говорить медленно. Мне еще слишком многое нужно сказать — как же я могу медлить?
В этом смысле я очень похож на своего деда, которому нравилось беседовать с людьми. Он мог проговорить с ними три-четыре часа подряд в нашей комнате для гостей, рассуждая о произошедших за день событиях. Я, как и он, тоже люблю беседы. Если рядом со мной люди и наши сердца открыты друг другу, я полностью забываю о времени и не замечаю ни наступления ночи, ни восхода солнца. Слова льются из моего сердца нескончаемым потоком. Когда я в таком состоянии, я не хочу есть, а могу только говорить и говорить. Бедные мои слушатели, как же им приходится нелегко! У них даже пот на лбу выступает! Пока я говорю, по моему лицу тоже стекает пот, и поэтому никто не осмеливается извиниться и уйти. Чаще всего это заканчивается тем, что мы продолжаем беседовать всю ночь напролет.
Ключ к открытию величайшей тайны
Я детально обследовал окрестности Сеула, каждый его уголок, так же, как когда-то облазил все горы вокруг своей деревни. В те времена из одного конца города в другой пробегала трамвайная линия. Билет стоил всего пять чонов, но я не хотел тратить эти деньги и предпочитал ходить до центра города пешком. В жаркие летние дни я шагал, обливаясь потом, а в зимнюю стужу приходилось чуть ли не бежать, прорываясь сквозь колючий ледяной ветер. Я шагал так быстро, что успевал добраться от Хыксокдона через реку Хан до универмага «Хващин» в Чонно всего за сорок пять минут, хотя большинству людей на это требовалось полтора часа. Представляете, как быстро я ходил?
Я экономил на трамвайных билетах и отдавал эти деньги тем, кто нуждался в них больше, чем я. Это были сущие копейки, и мне неудобно было их дарить, но я отдавал их так, словно делился с людьми удачей. Помогая человеку, я молился о том, чтобы эти деньги стали своего рода семенем, из которого вырастет множество благословений.
Каждый год в апреле родители присылали мне деньги на учебу. Однако я не мог спокойно смотреть на то, в каких стесненных обстоятельствах жили мои друзья, и поэтому уже к маю от этой суммы ничего не оставалось. Однажды по пути в институт я встретил тяжелобольного человека, который мог вот-вот умереть, и мне стало его так жалко, что я просто не смог пройти мимо. Я взвалил его на спину и донес до ближайшей больницы, до которой было около двух километров. У меня с собой были деньги на учебу, и я оплатил счет за его лечение. Однако после этого у меня не осталось ни гроша. Несколько дней подряд университет настойчиво присылал мне запросы об оплате учебы, и тогда друзья пожалели меня и собрали недостающую сумму! Я никогда не забуду тех, кто помог мне в той ситуации...
Отдавание и принятие помощи — эти действия неотделимы друг от друга волей Небес. Сначала ты этого не понимаешь, но позднее до тебя доходит: «Ага, вот почему Бог послал меня туда именно в тот момент!» Итак, если вдруг перед вами оказывается человек, которому необходима ваша помощь, подумайте о том, что Небеса послали ему вас в качестве помощника, и помогите ему. Если Небеса хотят, чтобы вы помогли ему десять раз, вы не можете помочь лишь пять раз. Если Небеса просят вас помочь десять раз — помогите сто раз! Помогая человеку, будьте готовы в случае необходимости отдать все, что у вас есть.
В Сеуле я впервые попробовал парамток. Это разноцветные и мудрено закрученные рисовые пирожки. Увидев такое лакомство в первый раз, я был восхищен его аппетитным внешним видом. Но когда я откусил кусочек, я обнаружил, что внутри нет никакой начинки — только воздух. И этот воздух щелкнул пузырем у меня во рту.
Это помогло мне увидеть Сеул другими глазами. Уж больно он походил на такой вот воздушный пирог! Теперь я понимаю, почему корейцы называют жителей Сеула скупердяями. Со стороны Сеул кажется городом, где живут богатые и значительные люди. Но в реальности его населяют почти одни бедняки. Под мостом реки Хан жило множество бродяг, одетых в лохмотья. Я приходил к ним в гости, стриг им волосы и беседовал по душам. Беднякам живется очень несладко, и у них в сердце таится неизбывная скорбь. Стоило мне сказать кому-нибудь пару слов, и человек мог тут же разрыдаться. Порой кто-нибудь из них угощал меня рисом, выпрошенным у людей в качестве подаяния. Ладонь с протянутым рисом могла быть сплошь черна от грязи, но я никогда не отказывался от пищи и всегда с радостью принимал ее.
На родине я каждое воскресенье ходил в церковь, и я продолжал это делать в Сеуле. Чаще всего я бывал в церкви Иисуса Мёнсудэ в Хыксокдоне, а также в церкви пятидесятников Собинго, где службы проводились прямо на берегу реки Хан. В морозные зимние дни, когда я шел пешком через реку на службу, подо мной трещал лед. В этой церкви я служил учителем воскресной школы, и детям очень нравились мои уроки. Сейчас я уже далеко не такой шутник, каким был в молодости, но раньше я любил рассказывать забавные истории. Стоило мне заплакать, и дети плакали вместе со мной, а когда я смеялся, они смеялись в ответ. Дети очень любили меня и постоянно ходили за мной по пятам, куда бы я ни шел.
Позади Мёнсудэ есть гора Содал, более известная как гора Тальма. Я частенько забирался на эту гору, садился на большой валун и всю ночь проводил в молитве. И в жару, и в мороз я поднимался на гору и погружался в молитву, не пропуская ни одной ночи. Во время молитвы я обычно не мог сдержаться и начинал рыдать взахлеб — да так, что у меня начинало течь из носа. Я часами молился об откровениях, полученных от Бога. Его слова были словно зашифрованные послания, и я чувствовал, что должен молиться еще глубже. Вспоминая об этом, я вижу, что уже тогда Бог вложил в мою руку ключ, открывающий путь к секретам. Только я еще не мог открыть его, ведь мои молитвы были недостаточно сильны. Я был так поглощен этими мыслями, что ел, не чувствуя вкуса пищи, и ложился спать, когда сна не было ни в одном глазу.
Студенты, жившие в соседних комнатах, не знали, что я хожу на гору молиться, но все-таки, должно быть, чувствовали, что я не такой, как все, ибо относились ко мне с уважением. В общем-то, мы хорошо ладили друг с другом и частенько развлекались, рассказывая друг другу смешные истории.
Мне нетрудно найти общий язык с кем угодно. Если ко мне придет бабушка, я стану ее другом, а если прибегут дети, мы тут же начнем играть. Вы можете сердечно подружиться с любым человеком, если будете относиться к нему с любовью.
Мы подружились с госпожой Ли Ги Ван, потому что ее воодушевили мои молитвы во время ранних утренних служб в церкви. Наша дружба продолжалась более пятидесяти лет, пока ей не исполнилось восемьдесят и она не покинула этот мир. Ее младшая сестра, госпожа Ли Ги Бон, хлопотавшая по хозяйству в нашем общежитии, всегда относилась ко мне с неизменной теплотой. Она признавалась, что не могла успокоиться, пока не сделает для меня что-нибудь хорошее — например, не угостит каким-нибудь вкусным салатом к рису. Я был не слишком-то разговорчив и не являлся «душой компании», поэтому даже не знаю, чем мог вызвать в ней такое отношение. Когда некоторое время спустя меня арестовала японская полиция и отправила в жандармерию провинции Кёнгидо, эта женщина приносила мне одежду и еду. Даже сейчас, вспоминая о ней, я чувствую, как сердцу становится теплее...
Рядом с нашим общежитием был магазинчик, принадлежавший госпоже Сон. В те времена эта женщина много помогала мне. Она то и дело приговаривала, что если человек живет вдали от дома, он никогда не наедается досыта, и поэтому частенько приносила мне продукты, которые оставались от продажи. Ее магазинчик был очень маленьким, и доходов от него едва хватало ей самой, но она всегда очень по-доброму заботилась обо мне.
Однажды мы проводили службу на песчаном плесе возле реки Хан. Когда пришло время обеда, каждый нашел себе место, где присесть, и принялся за еду. А у меня не было привычки обедать, и мне было неудобно сидеть там и ничего не делать, пока другие едят. Я тихонько отошел в сторону и присел неподалеку на груду камней. Там меня и увидела госпожа Сон и тут же принесла два куска хлеба и мороженое. Как я был ей благодарен! Это угощение стоило всего четыре чона, но я никогда не забуду чувство признательности, согревшее меня в ту минуту.
Я всегда помню тех, кто помогал мне, какой бы малой и незначительной ни казалась услуга. Даже сейчас, когда мне исполнилось девяносто, я могу безошибочно вспомнить все случаи, когда люди помогали мне, и все то, что они для меня сделали. Я никогда не забуду людей, которые без колебаний рискнули многим ради меня и от всего сердца одарили множеством благословений.
Если человек оказывает мне услугу, я просто не могу остаться в долгу. Если у меня нет возможности оказать ответную услугу лично ему, я обязательно запомню этого человека и сберегу его в своем сердце. Мне необходимо жить с искренним ощущением, что я расплачусь с ним, если помогу кому-нибудь еще.
Граната с выдернутой чекой
После окончания института Кёнсон в 1942 году я отправился в Японию, чтобы продолжить учебу. Я поехал туда, поскольку чувствовал, что должен как можно больше узнать об этой стране. По пути в Пусан я сидел в вагоне поезда и безутешно плакал, зарывшись носом в пальто. От плача у меня распухло лицо и непрерывно текло из носа. Я горевал из-за того, что покидаю свою родину, которая так и не освободилась от колониального гнета. Я плакал, глядя в окно, и видел, что горы и реки рыдают еще горше. И травы, и деревья плакали вместе со мной, проливая потоки слез. Глядя на них, я сказал себе: «Я обещаю вам, дорогие мои горы и речки, что вернусь и принесу с собой освобождение для нашей родины! Поэтому не плачьте, а ждите меня».
В Пусане я сел на паром до Симоносеки и отправился в путь 1 апреля в два часа утра. В ту ночь дул сильный ветер, но я, не в силах покинуть палубу, стоял и смотрел, как тают вдалеке огни Пусана. Я простоял на палубе до самого рассвета. По прибытии в Токио я поступил на техническое отделение университета Васеда, на факультет электротехники. Я выбрал именно эту специальность, потому что чувствовал, что без знаний в области современной науки не смогу открыть новую религиозную философию.
Незримый мир математических законов чем-то похож на религию. Чтобы достичь в нем больших высот, человеку необходимы выдающиеся мыслительные способности. Наверное, из-за слишком большой головы мне легко давалась математика, которую многие считают сложной наукой, и я очень любил ее изучать. Голова у меня действительно чересчур велика, поэтому я всегда с трудом подбирал себе шляпы. Мне приходилось ходить к портному, чтобы шить их на заказ. Возможно, размер моей головы помогает мне сосредотачиваться на задаче и справляться гораздо быстрее с тем, на что у других уходят годы.
Во время учебы в Японии я так же, как и в Корее, донимал преподавателей вопросами. Стоило мне начать задавать вопросы, как я уже не мог остановиться. Некоторым педагогам приходилось делать вид, что они меня не замечают, и игнорировать вопросы типа «Что вы думаете об этом?». Если я сомневался в чем-то, я не успокаивался, пока не докапывался до самого корня проблемы. У меня не было цели умышленно третировать учителей. Просто я чувствовал, что раз уж взялся изучать предмет, я должен изучить его досконально.
На моем столе в общежитии всегда лежали рядком три раскрытых Библии — на корейском, японском и английском языках, — и я снова и снова перечитывал одни и те же отрывки параллельно на трех языках. Прочтя отрывок, я подчеркивал несколько строк и делал пометки на полях, пока все три мои Библии не стали пестрыми от чернил и трудночитаемыми.
Сразу после начала учебы я принял участие в событии, которое Ассоциация корейских студентов организовала для молодых людей, приехавших из Кореи. На этой встрече я спел корейскую песню, вложив в голос всю свою страсть, чтобы все смогли почувствовать мою любовь к родине. На собрании присутствовали представители японской полиции, поскольку в те времена корейцам было предписано тихо и незаметно вливаться в японскую культуру, но я все-таки спел патриотическую песню, и спел ее с гордостью. Ом Дон Мун, который в тот год поступил на факультет архитектурной инженерии, был глубоко тронут моим пением, и мы с ним стали друзьями на всю жизнь.
В те времена корейские студенты, учившиеся в разных учебных заведениях Токио и его окрестностей, организовали подпольное движение за независимость. Это был естественный шаг, учитывая, что наша родина все еще страдала под колониальным гнетом Японии.
Движение возникло в ответ на то, что японцы назвали «Великой восточноазиатской войной» (1937–1945). С нарастанием конфликта токийские власти начали призывать на военную службу корейских студентов в качестве «учащихся солдат» и посылать их на фронт. Такая политика подтолкнула подпольное движение за независимость к более решительным действиям. В наших рядах начались жаркие дебаты о том, что нам делать с японским императором Хирохито. Я занял в этом движении ключевую позицию, и мы действовали в тесном сотрудничестве с Временным правительством Республики Корея, располагавшимся в Шанхае и возглавляемым Гу Кимом. Род моих занятий предполагал, что я могу в любой момент расстаться с жизнью, но я не колебался, зная, что если я расстанусь с жизнью, это послужит благородной цели.
Рядом с университетом Васеда располагалось отделение полиции. Японские полицейские были наслышаны о моей деятельности и не спускали с меня глаз. Они заранее узнавали, когда я собираюсь в Корею на каникулы, и следили за мной до самого причала, чтобы убедиться, что я отплыл. Я уж и не помню, сколько раз меня притаскивали в участок, избивали там, пытали и запирали в камере. Но даже под самыми страшными пытками я не поддался и не выдал им то, что они стремились узнать.
Чем сильнее они меня били, тем крепче я стискивал зубы. Однажды я вступил в схватку с полицейскими на мосту Йотсугава, когда они гнались за мной. Во время потасовки я выдернул штырь из перил моста и стал размахивать им, словно дубиной. В те дни я был на взводе, словно граната с выдернутой чекой...
Подружиться с рабочими, разделив с ними их страдания
Так же, как и в Сеуле, я задался целью подробно изучить весь Токио. Когда друзья отправлялись куда-нибудь в Никко полюбоваться пейзажами, я отставал от компании и обходил районы Токио один за другим. Я увидел, что в этом современном и внешне ухоженном городе живут очень бедные люди. И я уже который раз отдавал им все деньги, присланные мне из дома.
В те времена жители Японии тоже голодали, и многие корейские студенты испытывали денежные затруднения. Раз в месяц мне выдавали продуктовые карточки, и я раздавал их студентам, которые не могли их себе позволить, говоря им: «Только ешьте досыта — все, что вы хотите». Я не переживал о том, как заработать денег, ведь я мог пойти поработать где-нибудь поденным рабочим и получить хороший ужин. И еще мне нравилось зарабатывать деньги, чтобы платить за учебу студентов, не имевших средств. Помогая людям и стараясь накормить их, я буквально наполнялся энергией.
Раздав все деньги, которые у меня были, я устраивался развозчиком товаров и разъезжал в велосипедной повозке по всем районам Токио. Однажды в Гиндзе, районе сияющих огней, я вез в своей повозке телеграфный столб, и он внезапно вывернулся наземь прямо на перекрестке. Все вокруг кинулись прочь, спасая свою жизнь. Такие поездки помогли мне хорошо изучить географию токийских улиц, словно линии на моей ладони.
Я был рабочим среди рабочих и хорошим другом для них. Как и пропахшие потом работяги, я брался за дело и трудился до тех пор, пока с меня не начинал литься градом пот. Это были мои братья, и они могли вонять чем угодно. Мы укрывались лоскутными одеялами — такими мерзкими и грязными, что по ним косяками разгуливали черные вши. Я без колебаний пожимал протянутые руки рабочих, покрытые толстой коркой грязи. Их пот, перемешанный с грязью, был полон обезоруживающей сердечной теплоты. Именно их горячие сердца так сильно притягивали меня...
Первое время я работал на сталелитейном заводе в Кавасаки и на верфи. К верфи приставали баржи, перевозившие уголь, и мы, сбившись в группы по трое, работали до часу ночи, чтобы погрузить на баржу 120 тонн угля. Нам, корейцам, хватало и одной ночи, чтобы выполнить работу, на которую у японцев уходило три дня.
Люди, на которых мы работали, порой выжимали из рабочих все соки. Чаще всего это были бригадиры, напрямую раздававшие рабочим указания. Они забирали себе 30% жалованья рабочих, и те ничего не могли с этим поделать, будучи совершенно бесправными. Эти бригадиры нещадно эксплуатировали слабых и заискивали перед сильными. Один из них так меня взбесил, что я однажды пришел к нему с парой своих друзей и потребовал, чтобы тот выплатил рабочим всю зарплату в полном размере.
«Если ты нанял людей, будь добр заплатить им все, что они заработали!» — вот что я сказал ему.
Он отказался, и тогда мы пришли к нему на второй и на третий день. Мы были полны решимости надавить на него и заставить сдаться. В конце концов, я ударил его, и он рухнул на пол. Вообще-то я достаточно сдержанный и неагрессивный человек, но если меня как следует разозлить, весь мой непокорный и упрямый нрав, оставшийся с юных лет, тут же вылезает наружу.
На сталелитейном заводе в Кавасаки были цистерны для хранения серной кислоты, и рабочим приходилось чистить их, залезая внутрь и сливая остатки сырья. Испарения от этой кислоты крайне токсичны, и человек не мог находиться в цистерне более пятнадцати минут. Но люди шли на риск и трудились даже в таких ужасных условиях, чтобы заработать себе на пропитание. Вот какой бесценной была еда.
Сам я постоянно ходил голодным, но все же следил за тем, чтобы пища не стала для меня самоцелью. Я чувствовал, что мне нужна конкретная причина для того, чтобы съесть ту или иную порцию еды. Обычно, садясь за стол, я спрашивал себя о причинах своего голода: «Я действительно усердно потрудился? Для кого я работал — для себя или на благо общества?» Глядя на рис в своей тарелке, я говорил ему: «Я съем тебя, чтобы набраться сил для еще более великих свершений, которые будут еще полезнее для общества, чем мои вчерашние дела». И тогда рис одобрительно улыбался в ответ. В такие моменты трапеза становилась для меня радостным таинством. Но если я чувствовал, что не могу произнести эти слова, я пропускал еду, каким бы голодным ни был. Вот и получалось, что я чаще всего ел раз или два в день.
Я ограничивал себя двумя приемами пищи в день отнюдь не из-за плохого аппетита. На самом деле, принимаясь за еду, я мог проглотить за один присест просто немереное количество. Однажды я съел зараз одиннадцать больших мисок пшеничной лапши, а в другой раз проглотил семь тарелок риса вперемешку с курицей и жареным яйцом. Но все же, несмотря на такой аппетит, я продолжал отказываться от обеда и до тридцати с лишним лет ограничивал себя двумя приемами пищи в день.
Чувство голода чем-то сродни ностальгии. Эта голодная ностальгия была мне слишком хорошо знакома, однако я чувствовал, что пожертвовать одним приемом пищи в день — это меньшее, что я могу сделать ради блага мира. Еще я не позволял себе носить новую одежду и никогда не отапливал комнату, как бы холодно ни было. Когда холод становился нестерпимым, я заворачивался в газету и согревался, словно в шелковом одеяле. Поэтому я очень хорошо знаю, каким бесценным может быть простой газетный лист.
Порой я уходил в район Синагава, где жили одни бедняки, и ночевал вместе с ними, укрывшись тряпьем. В теплые солнечные дни я собирал вшей у них с волос и делился с бедняками своей трапезой. На улицах Синагавы всегда было много проституток. Я часто беседовал с ними и выслушивал истории их жизни. Мы становились хорошими друзьями, не выпив и капли спиртного. Некоторые утверждают, что для того, чтобы открыть свое сердце и начать откровенно рассказывать о себе, нужно хорошенько напиться, но это не более чем оправдание. Когда эти женщины понимали, что я не пьян и искренне желаю им добра, они делились со мной всем, что лежало у них на сердце, и рассказывали о своих бедах и несчастьях.
Где я только не работал во время учебы в Японии! Я был и вахтером в офисном здании, и писцом, писавшим письма для неграмотных. Я был и простым рабочим, и бригадиром. Мне довелось побывать даже в роли гадалки! Когда мне срочно нужны были деньги, я писал и продавал каллиграфии. Однако я никогда не запускал учебу и относился ко всем этим вещам как к части учебного процесса. Я перепробовал множество различных профессий и познакомился со множеством разных людей, и в результате научился понимать людей гораздо глубже. Благодаря накопленному опыту я могу с первого взгляда определить, чем человек зарабатывает на жизнь и хороший ли у него характер. Мне не нужно ломать голову над этим: тело само подскажет мне ответ.
Я уверен, что для того, чтобы стать действительно хорошим человеком, необходимо пережить множество самых разных трудностей, пока тебе не исполнилось тридцать. Нужно спуститься вниз, в самые глубины отчаяния, на самое дно человеческого существования, чтобы понять, каково это. Необходимо научиться находить новые возможности даже в сущем аду. Мы можем возродиться и шагнуть навстречу новому будущему, лишь когда выберемся из глубин отчаяния и обретем новую решимость.
Мы не должны смотреть лишь в одном направлении — важно видеть одновременно и тех, кто занимает верхние позиции, и тех, кто находится в самом низу. Научитесь наблюдать за востоком, западом, югом и севером. Успех в жизни зависит от того, насколько хорошо мы умеем видеть глазами души. Для этого нам необходимо пережить множество испытаний и запомнить свой опыт. Нам важно сохранять самообладание в любой ситуации, всегда быть доброжелательными к людям и уверенными в себе, а также научиться приспосабливаться к любым обстоятельствам.
Человек с достойным характером должен всегда учитывать, что, достигнув самого высокого положения, он рискует упасть на самое дно. Большинство людей боятся падать с высоты, поэтому они стараются всеми силами удержаться на вершине. Однако если вода перестает течь, она быстро протухает. Так и человек, занявший высокое положение, должен найти в себе силы, чтобы спуститься вниз и подождать какое-то время, чтобы потом снова подняться. Будет возможность — и он поднимется еще выше, чем раньше. Именно такой человек может стать по-настоящему великим и достойным восхищения многих людей, действительно хорошим лидером. Все эти испытания человек должен пройти до того, как ему исполнится тридцать лет.
Я учу молодых людей тому, что они должны пережить в своей жизни все, что только можно. Им необходимо прямо или косвенно пройти через все испытания, существующие в нашем мире, словно штудируя энциклопедию. Лишь тогда они смогут по-настоящему найти себя. Сущность человека — это присущий ему субъективный характер. Если кто-то способен уверенно заявить: «Я могу объехать всю страну и не найти никого, кто способен одержать надо мной верх», — значит, такой человек уже готов взять на себя любую задачу и уверен в ее успешном выполнении. Тот, кто живет именно так, достигает реального успеха. Успех ему просто гарантирован. Вот к какому выводу я пришел, когда жил в Токио как нищий.
В этом городе я ел и спал вместе с рабочими, мучился от голода вместе с бродягами, познал все мыслимые трудности и защитил целую диссертацию по философии страданий. Лишь на этом основании я смог понять Божью волю и Его труды по спасению человечества. Прежде чем вам исполнится тридцать, вы должны стать настоящим королем страданий, и тогда на вас снизойдет слава Царства Небесного.
Море безмятежной любви
Положение Японии в войне стало просто отчаянным. Для пополнения рядов своей армии Япония решила произвести досрочный выпуск всех студентов и отправить их на фронт. Вот почему я окончил учебу на полгода раньше.
Как только мне назначили дату выпуска — 30 сентября 1943 года — я тут же послал семье телеграмму: «Вернусь на "Конрон Мару"», обозначив в ней название парома, на котором я должен был отплыть из Симоносеки в Пусан. Однако в день отъезда из Токио мои ноги странным образом буквально приросли к земле, и я не мог сдвинуться с места. Сколько бы я ни пытался, я так и не смог сделать ни шагу и не дошел до поезда, отправлявшегося из Токио.
Тогда я сказал себе: «Наверное, Небеса не хотят, чтобы я садился на этот паром». Поэтому я решил немного задержаться в Японии и отправился с друзьями в поход на гору Фудзияма. Когда через несколько дней я вернулся в столицу, вся страна была взбудоражена известием о том, что паром «Конрон Мару», на котором я должен был плыть, утонул на пути в Пусан. Мне сказали, что на том корабле находилось более пятисот человек, среди которых были и корейские студенты. Никто из них не остался в живых. «Конрон Мару», которым Япония очень гордилась, был потоплен американской торпедой.
Когда моя мать услышала о том, что паром, на котором ее сын должен был вернуться домой, пошел ко дну, она тут же выбежала из дома, даже не подумав обуться. Она пробежала босиком восемь километров до ближайшей железнодорожной станции, а оттуда бросилась прямиком в Пусан. Прибыв в приморский полицейский участок Пусана, она узнала, что в списках пассажиров парома моего имени нет. Однако в токийском общежитии ей сказали, что я собрал вещи и съехал. Это повергло ее в крайнее замешательство и отчаяние. Она снова и снова повторяла мое имя, не замечая, что ее босые ноги сплошь покрыты ранами и занозами.
Я могу лишь представить, как мама волновалась и сходила с ума от мысли, что с ее сыном могло что-то случиться. Мне понятны ее чувства, однако с тех пор, как я избрал путь Божьей воли, я стал для нее сущим наказанием. Я не мог позволить себе быть связанным личными переживаниями, поэтому и не написал маме, что меня не было на утонувшем корабле, хотя и знал, что она будет сильно беспокоиться, жив ли я.
К моменту моего возвращения в Корею так ничего и не изменилось. Тиранический гнет Японии становился все жестче день ото дня. Вся страна была насквозь пропитана кровью и слезами. Я вернулся в Хыксокдон в Сеуле и снова стал посещать церковь Мёнсудэ, а потом завел дневник и начал ежедневно записывать в него свои мысли и выводы. В те дни, когда мыслей было особенно много, я мог исписать весь дневник. Я получал ответы на множество вопросов, над которыми мучился долгие годы. Наконец-то после стольких лет, посвященных молитвам и поиску истины, я нашел эти ответы! Они приходили ко мне мгновенно, словно в тот момент меня пронизывал сгусток энергии.
В те времена мне пришло откровение: «Взаимоотношения Бога и человека — это отношения Отца и детей, и Богу невыносимо больно глядеть на страдания людей». Именно тогда у меня в голове все встало на свои места, и тайны Вселенной раскрылись передо мной, словно кто-то включил кинопроектор. Все, что произошло с того момента, как человек нарушил Божью заповедь, с поразительной четкостью пронеслось у меня перед глазами, из которых бесконечным потоком лились и лились горячие слезы. Я упал на колени, прижался лбом к полу и пролежал так очень долго, не в силах подняться. Как и в те времена, когда я был маленьким и отец носил меня домой на спине, я прилег на колени к Богу и заплакал горючими слезами... Через девять лет после встречи с Иисусом мои глаза наконец открылись навстречу истинной Божьей любви.
Бог создал Адама и Еву и послал их на землю, чтобы они стали плодотворными, приумножились и создали гармоничный мир, где они могли бы жить. Но они не дождались положенного часа, назначенного Богом. Они совершили прелюбодеяние и родили двоих сыновей, Каина и Авеля. Дети, рожденные в результате грехопадения, не доверяли друг другу и дошли до того, что один брат убил другого. И тогда мир на земле был уничтожен, а грехи распространились по всему свету. С этого и начались все печали и горести Бога. После этого человечество совершило еще один ужасный грех: люди убили Иисуса, своего Мессию. Вот почему страдания человечества — это процесс искупления, которое придется платить до тех пор, пока Бог не перестанет скорбеть.
Иисус явился ко мне, шестнадцатилетнему подростку, чтобы рассказать о корне первородного греха человека и попросить меня сделать все для построения гармоничного мира, в котором не будет места греху и грехопадению. Я получил четкие указания Бога, просившего меня заплатить искупление за грехи человечества и построить мир, который Он задумал с самого начала. Гармоничный мир, о котором мечтает Бог, — это не какое-то место, куда мы отправимся после смерти. Бог желает, чтобы именно наш мир, в котором мы живем, стал абсолютно счастливым и мирным — таким, каким Он сотворил его в самом начале. Разумеется, Бог создал Адама и Еву не для того, чтобы они страдали. И мне предстояло поведать людям эту потрясающую истину.
Когда мне открылся секрет сотворения Вселенной, в моей душе, как в безбрежном океане, воцарились мир и покой. Сердце наполнилось до краев Божьим Словом, и казалось, оно вот-вот взорвется и все выплеснется наружу. Мое лицо стало буквально светиться от радости!
Пожалуйста, не умирай
Я продолжал посвящать себя молитве и в какой-то момент интуитивно почувствовал, что пришло время жениться. Поскольку я принял решение следовать по Божьему пути, все в моей жизни должно было идти в соответствии с Его волей. Получив указание через молитву, я не мог не последовать ему, поэтому я отправился к своей тете, опытной свахе, и попросил ее познакомить меня с девушкой, которая стала бы мне хорошей женой. Так я встретил Чхве Сон Гиль — дочь известных христиан из Чонджу.
Это была хорошо воспитанная девушка из праведной семьи. Она окончила лишь начальную школу, но зато у нее был такой сильный характер и такая глубокая вера в Христа, что ее в шестнадцать лет посадили в тюрьму за отказ подчиниться японскому колониальному режиму, предписывавшему всем корейцам поклоняться синтоистским святыням. Мне сказали, что я был двадцать четвертым по счету женихом, сватавшимся к ней, так что эта девушка, как оказалось, была очень разборчива по части своей будущей судьбы.
И все же, вернувшись в Сеул, я полностью забыл о нашей встрече с ней. После завершения учебы в Японии я планировал отправиться в китайский Хайлар — город на границе между Китаем, Советским Союзом и Монголией.
В Токийском университете меня распределили на работу в энергетическую компанию в Маньчжурии, и я собирался проработать в Хайларе три года и выучить там русский, китайский и монгольский языки. Точно так же, как перед этим я хотел учиться в Японии, чтобы знать язык и победить японцев, я собрался в этот пограничный город, чтобы выучить там несколько языков и подготовиться к будущему.
Однако очень скоро стало понятно, что Япония неизбежно проиграет войну. Тогда я решил, что в Маньчжурию лучше не ехать, и остановил свой выбор на филиале маньчжурской энергетической компании в Андоне (современный Дандон), подписав документ об отказе от распределения. После этого я отправился домой, в родную деревню.
Вернувшись, я узнал, что тетя, организовавшая мою помолвку, была в тихой панике. Дело в том, что та самая девушка, с которой мы познакомились, не собиралась выходить замуж ни за кого, кроме меня, и тем самым навлекала множество проблем на свою семью. Поэтому тетя просто взяла меня за руку и отвела в дом семьи Чхве.
Я очень подробно рассказал Чхве Сон Гиль о том, какая жизнь меня ждет. И я предупредил ее:
— Даже если мы сейчас поженимся, будь готова разлучиться со мной как минимум на семь лет.
— Зачем мне это нужно? — удивилась она.
И я ответил:
— Передо мной стоит задача, которая для меня важнее семейной жизни. На самом деле я собираюсь жениться ради осуществления Божьего провидения. Наш брак должен выйти за рамки семьи, чтобы мы смогли полюбить свою страну и все человечество. Скажи мне — сейчас, когда ты знаешь о моих намерениях, ты все еще хочешь выйти за меня?»
Ее ответ был очень твердым:
— Для меня это не имеет значения. После встречи с тобой мне приснилась цветочная поляна под луной. Я уверена, что ты — моя вторая половинка, посланная Небесами, и я готова к любым трудностям и испытаниям.
Однако меня не отпускало беспокойство, и я снова и снова донимал ее вопросами, но она все время старалась успокоить меня и отвечала:
— Я готова на все, лишь бы выйти за тебя. Не волнуйся ни о чем.
Мой будущий тесть скоропостижно скончался за неделю до предполагаемой свадьбы, и ее пришлось отложить. В итоге мы провели церемонию 4 мая 1944 года. Обычно в мае стоят прекрасные весенние деньки, но в день нашей свадьбы дождь лил как из ведра. Церемонию проводил преподобный Ли Хо Бин из церкви Иисуса Христа. Позднее, после освобождения Кореи от японской оккупации, преподобный Ли отправился в Южную Корею и открыл там экуменическую семинарию Чунан.
Мы с женой начали семейную жизнь в моем общежитии в Хыксокдоне. Я очень сильно любил ее и так заботился о ней, что хозяйка нашего домика приговаривала: «Вот это да! Ты и впрямь обожаешь ее, раз обращаешься с ней, как с хрупким яйцом!»
Чтобы содержать семью, я устроился на работу в кёнсонском филиале строительной компании «Кашима Гуми» в Ёнсане, продолжая при этом заниматься церковной деятельностью. Но однажды в октябре к нам в дом ворвалась японская полиция.
«Ты знаешь такого-то и такого-то из университета Васеда?» — потребовали они ответа. И затем, не дав мне вымолвить и слова, выволокли меня из дома и отвели в полицейский участок провинции Кёнгидо. Меня схватили, потому что один из моих друзей, арестованный за причастность к коммунистам, назвал допросчикам мое имя.
Оказавшись в полиции, я был немедленно подвергнут пыткам: «Ты — член коммунистической партии, так ведь? И ты, должно быть, действовал заодно с тем негодяем во время учебы в Японии? Даже не пытайся это отрицать! Стоит нам запросить информацию в Главном полицейском управлении Токио, и они расскажут нам все. Так что ты либо выдашь нам список всех членов партии, либо сдохнешь, как собака!»
Они били меня столом, переломав все четыре ножки о мое тело, но я так и не назвал им имена людей, которые работали со мной в Японии.
Тогда полицейские отправились в дом, где я жил с женой, перевернули его вверх дном и нашли мои дневники. Они принесли мне эти дневники и, просматривая страницу за страницей, требовали, чтобы я рассказал им о тех, чьи имена там были упомянуты. Я все отрицал, хоть и знал, что они могут убить меня за молчание. И тогда полицейские стали избивать меня ногами в шипованных сапогах до тех пор, пока мое тело не превратилось в безвольный полумертвый кусок мяса. Затем они подвесили меня к потолку и стали раскачивать взад-вперед. И я болтался там, как туша в лавке мясника, пока они били меня палкой. Мой рот тут же наполнился кровью, и она начала стекать на цементный пол прямо подо мной. Когда я терял сознание, меня окатывали ведром воды. Сознание возвращалось, и они продолжали пытать меня снова и снова.
Потом мне зажали нос и с помощью чайника стали вливать воду прямо в горло, заставив меня глотать ее. Когда мой живот раздулся от воды, меня бросили на пол лицом кверху, как лягушку, и начали топтаться по животу сапогами, выдавливая воду из пищевода. Меня рвало до тех пор, пока от рвоты не потемнело в глазах. После таких пыток глотку и пищевод стало жечь страшным огнем. Боль была такой адской, что я не мог проглотить и ложки супа. Силы покинули меня, и я мог только лежать на полу и не двигаться...
Война подходила к концу, и японская полиция в отчаянии шла на крайние меры. Они пытали меня так, что не описать никакими словами. И все же я терпел и не выдал ни одного из своих друзей. Сознание то и дело покидало меня, но я прилагал все силы, чтобы не дать им того, чего они так ждали. В конце концов, устав меня мучить, полицейские послали за моей матерью. Когда она приехала, мои ноги были такими распухшими, что я не мог даже встать. Двум полицейским пришлось закинуть мои руки себе на плечи и помочь мне добраться до комнаты свиданий.
Мамины глаза наполнились слезами еще до того, как она увидела меня... «Потерпи еще чуть-чуть, — сказала она. — Я постараюсь найти для тебя адвоката. Пожалуйста, потерпи еще, не умирай!»
Глядя в мое окровавленное лицо, она умоляла: «Я знаю, что ты хочешь поступить как лучше, но все же самое главное для тебя — остаться в живых. Что бы ни случилось, не умирай!»
Мне было так жаль ее! Мне ужасно хотелось воскликнуть «Мама!», обнять ее и громко разрыдаться вместе с ней. Но я не мог этого сделать, так как слишком хорошо знал, зачем ее привели сюда японцы. Мама отчаянно умоляла меня не умирать, но я мог лишь моргать ей в ответ заплывшими и залитыми кровью глазами.
Все время, пока я находился в полицейском участке провинции Кёнгидо, госпожа Ли Ги Бон, — хозяйка дома, где я жил, — приносила мне еду и одежду. Каждый раз при виде меня она начинала рыдать. Я утешал ее: «Потерпите еще чуть-чуть, ведь скоро все закончится. Японию ждет поражение, поэтому не надо плакать!» Это были не пустые слова. Бог давал мне веру в это.
После того как полиция освободила меня в феврале следующего года, я забрал все свои дневники из дома, отнес их на берег реки Хан и сжег, чтобы не навлечь из-за них беду на своих друзей. Если бы я не сделал этого, рано или поздно дневники попали бы в руки полиции и причинили бы много бед другим людям.
Мне было очень трудно восстановить здоровье после пыток. Довольно долгое время мой стул был с кровью. Но миссис Ли, хозяйка нашего дома, а также ее сестра помогли мне и выходили меня со всей искренностью и преданностью.
И вот наконец 15 августа 1945 года Корея освободилась от японской оккупации. Это был день, которого с нетерпением ждал каждый кореец, — день настоящего триумфа и радости! Отовсюду слышались крики «Мансей!», и люди размахивали флагами тхэгукки по всему полуострову.
Но я не стал участвовать в празднике. Меня снедало черное отчаяние при мысли о том, какие ужасные беды вот-вот обрушатся на Корейский полуостров. Я заперся в чулане и погрузился в молитву. Вскоре моим страхам суждено было сбыться. Наша родина, едва освободившись от японской оккупации, была поделена надвое по 38 параллели, и Север оказался во власти коммунистического режима, отрицавшего Бога.
Приказ, которому нельзя не подчиниться
Сразу после освобождения наша страна погрузилась в беспросветный хаос. С прилавков исчезли товары первой необходимости, и даже обеспеченные люди не могли их нигде достать. У нас дома закончился рис, и я отправился в Пэкчон, что в провинции Хванхе, чтобы забрать оттуда купленный ранее рис, но по дороге получил откровение: «Перейди через 38 параллель и найди преданных Богу людей, оставшихся на Севере!» Я тут же пересек 38 параллель и направился в Пхеньян.
Наш первенец родился лишь за месяц до этого, и я очень беспокоился о жене. Я знал, что она будет с тревогой ждать меня, но у меня не было времени заглянуть домой перед тем, как отправиться на Север. Приказы Бога очень серьезны, и их нужно исполнять без колебаний и оговорок. У меня с собой не было ничего, кроме Библии, зачитанной мною до дыр и испещренной пометками и крохотными буковками величиной с кунжутное зерно.
Первые беженцы уже начали покидать Север, спасаясь от коммунистического режима. Из-за того, что коммунизм напрочь отвергал религию, большинству священников пришлось бежать на Юг в поисках свободы вероисповедания. Коммунисты объявили религию опиумом для народа и не позволяли людям хранить свою веру. Вот в какое место я отправился, следуя призыву Небес! Ни одному священнику не пришло бы в голову пойти туда — а я пошел, причем своими ногами.
Число беженцев на Юг все росло, и власти Севера решили ужесточить контроль на границе. Поэтому мне было нелегко пересечь 38 параллель. Пришлось пройти около пятидесяти километров до границы, и вплоть до самого Пхеньяна я даже не задумывался о том, зачем мне нужно было преодолевать столь трудный путь.
Я прибыл в Пхеньян 6 июня. Христианство пустило столь глубокие корни в этом городе, что его порой называли Иерусалимом Востока. Во время оккупации японцы всеми способами пытались уничтожить христианство, принуждая корейцев поклоняться синтоистским святыням и даже заставляя их кланяться в направлении императорского дворца в Токио. Приехав в Пхеньян, я начал свою проповедническую деятельность в доме Ра Чхве Сопа, который жил в деревне Кёнчанри, неподалеку от Западных ворот Пхеньяна.
Я начал с того, что стал сидеть с детьми, жившими по соседству. Я рассказывал им библейские истории, облекая их в форму детских сказок. Хоть они и были еще малышами, я разговаривал с ними почти как со взрослыми, только мягче и деликатнее, и старался как можно лучше позаботиться о них. В то же время я надеялся, что ко мне обязательно придут желающие услышать послание, которое я должен был передать. Иногда я целыми днями сидел у двери и ждал таких людей.
Вскоре ко мне стали приходить люди с искренней верой. Я беседовал с ними всю ночь напролет, пытаясь донести до них новую истину. Неважно, кто ко мне приходил — трехлетний ребенок или слепая старушка со сгорбленной спиной; я принимал их с любовью и уважением. Я кланялся и служил им, словно они были посланы Небесами. Даже если ко мне в гости приходили одни дедушки и бабушки, я беседовал с ними до поздней ночи, и мне даже в голову не приходило сказать: «Ох, как я устал от этих стариков!»
Каждый человек драгоценен. Будь то мужчины или женщины, молодежь или старики — все, абсолютно все одинаково бесценны.
Люди слушали, как молодой человек 26 лет рассказывает им о Послании к Римлянам или Книге Откровения. То, что они слышали от меня, коренным образом отличалось от всего слышанного ими ранее, поэтому ко мне стало приходить все больше и больше людей, жадно искавших истину.
Один молодой человек каждый день приходил и слушал меня, а затем молча уходил, не проронив ни слова. Это был Ким Вон Пхиль. Именно он стал первым членом в моей духовной семье. Он окончил педучилище в Пхеньяне и работал учителем. Мы с ним по очереди готовили еду, и таким образом между нами завязались отношения духовного учителя и ученика.
Стоило мне начать давать лекции по Библии, как я уже не мог остановиться, пока члены общины не уходили, извинившись и сославшись на то, что у них есть другие дела. Я проповедовал с такой страстью, что с меня ручьями тек пот. Порой я делал перерыв и шел в смежную комнатку, снимал там рубашку и отжимал ее от пота. Так было не только жарким летом, но и морозной зимой. Вот сколько энергии и страсти я вкладывал в свои проповеди!
Люди обычно приходили на службы в чистых белых одеждах. Мы пели одни и те же гимны десятки раз, и это придавало нашим собраниям пылкости и страсти. Члены нашей общины чувствовали столь сильное вдохновение, что начинали рыдать взахлеб, поэтому люди называли нас Церковью плача. Когда заканчивалась служба, прихожане рассказывали о благодати, которая снизошла на них во время служения, и мы, слушая эти рассказы, буквально переполнялись этой благодатью и словно уносились куда-то вверх, в небеса.
Со многими членами нашей Церкви происходили разные духовные явления. Кто-то из них впадал в транс, а кто-то начинал пророчествовать; кто-то разговаривал на разных языках, а кто-то их переводил. Иногда к нам заглядывал кто-нибудь, кто еще не стал членом Церкви, и тогда к такому человеку подходил кто-нибудь из членов и, не открывая глаз, хлопал его по плечу. После этого гость мог внезапно разрыдаться и горячо помолиться в раскаянии. В такие минуты нашу общину овевало жарким пламенем Святого Духа, и благодаря ему многие люди излечивались от хронических болезней — да так, словно никогда и не болели! Ходили слухи, что кто-то доел за мной остатки риса и вылечился от проблем с пищеварением. Люди начали поговаривать: «Еда в этой Церкви обладает лечебными свойствами!», и многие стали дожидаться, когда я закончу есть, чтобы отведать рис, оставшийся в моей тарелке.
Слухи об этих феноменах разлетались очень быстро, и вскоре наша община разрослась так, что людям уже не хватало места в доме. Две бабушки, Чи Сын До и Ок Се Хён, пришли к нам в Церковь потому, что увидели сон, в котором им было сказано: «С Юга пришел молодой духовный учитель и поселился напротив Мансудэ — пойди и повстречайся с ним!» Никто не приводил их к нам; они сами пришли по адресу, указанному во сне. Войдя в мой дом, они обрадовались, узнав, что я и есть тот самый человек, о котором говорилось во сне. Мне достаточно было взглянуть на их лица, чтобы понять, зачем они пришли. Когда я, не спрашивая их ни о чем, сам ответил на их вопросы, они были просто вне себя от радости и изумления.
Я учил Слову Бога, приводя примеры из собственной жизни. Может быть, именно поэтому многие люди смогли получить четкие и ясные ответы на те вопросы, на которые прежде ответов не было. Некоторые прихожане из крупных церквей присоединялись к нашей Церкви, стоило им услышать мои проповеди. Как-то раз к нашей Церкви за один день присоединилось пятнадцать посвященных членов церкви Чансудже, самой крупной церкви в Пхеньяне, что повлекло за собой мощный протест со стороны старейшин этой церкви.
Свекор госпожи Ким Ин Джу был видным общественным деятелем Пхеньяна. Их дом примыкал к церкви, которую он посещал. Но эта женщина вместо того, чтобы ходить в ту же церковь, тайком приходила к нам. Чтобы уйти из дома без ведома свекра, она шла на задний двор, карабкалась на один из громадных глиняных горшков и перелезала через забор. Она проделывала все это, будучи беременной, а между тем забор был в два или три раза выше человеческого роста. Сколько мужества ей требовалось для этого! Но однажды свекор узнал об этом и сурово ее наказал. Я сразу почувствовал, когда это произошло. В те дни, когда у меня начинало сильно болеть сердце, я посылал кого-нибудь к дому госпожи Ким, и эти люди, стоя у ворот, слышали, как жестоко ее избивает свекор. Он так зверски бил ее, что у нее из глаз лились кровавые слезы. Однако потом она рассказывала, что при мысли о том, что за воротами стоят члены Церкви и молятся за нее, боль сразу же утихала.
«Учитель, как вы узнали о том, что меня бьют? — спрашивала она позднее. — Когда наши члены подходили к воротам, боль уходила прочь, и свекор чувствовал, что ему уже не хватает сил меня избивать. Почему так происходило?»
Родители мужа не только били ее, но и привязывали к стойке ворот, однако она все равно приходила к нам в Церковь. В итоге члены ее семьи пришли и избили меня, порвав на мне одежду и разукрасив лицо синяками. Я даже не пытался дать им сдачи, так как знал, что в этом случае положение госпожи Ким станет еще хуже.
Чем больше прихожан крупных пхеньянских церквей приходило к нам на службы, тем сильнее пасторы этих церквей ревновали к нам и тем чаще жаловались на нас в полицию. Для коммунистических властей религия была как заноза в боку, и они искали любые возможности выдернуть ее одним махом. Поэтому они с радостью ухватились за идею, которую подали им пасторы, и арестовали меня. 11 августа 1946 года меня обвинили в том, что я перешел на Север с целью шпионажа, и заключили под стражу в полицейском участке Тэдон. Мне предъявили ложное обвинение в том, что я был послан в Северную Корею южнокорейским президентом Ли Сын Маном с целью подготовки к захвату Севера.
Они даже привлекли к делу советского следователя, но он так и не смог отыскать в моих действиях хоть какой-нибудь состав преступления. В конце концов, продержав меня в тюрьме три месяца, они признали меня невиновным и выпустили на свободу, но к тому времени я уже был мало похож на человека. Я потерял столько крови во время пыток, что находился на грани жизни и смерти. И тогда члены Церкви забрали меня и выходили. Они жертвовали ради меня своей жизнью, не ожидая ничего взамен.
Как только мне стало лучше, я возобновил проповедническую деятельность. За год наша община значительно выросла, и традиционные церкви не собирались оставлять нас в покое.
Все больше и больше прихожан других церквей стало приходить к нам на службы, и однажды примерно восемьдесят священников собрались и написали на нас жалобу в полицию. 22 февраля 1948 года я был снова арестован коммунистическими властями. Меня вновь обвинили в шпионаже в пользу Ли Сын Мана, и еще — в нарушении общественного порядка. Из зала суда меня уводили в наручниках. Через три дня меня обрили наголо и бросили в тюрьму. Я до сих пор помню, как падали на пол мои волосы, успевшие отрасти, пока я возглавлял Церковь. И еще я помню лицо господина Ли — человека, обрившего меня.
В тюрьме меня постоянно избивали и требовали, чтобы я сознался в своих преступлениях. И мне приходилось терпеть. Меня рвало кровью, но я не позволял себе терять сознание, даже находясь на волосок от смерти. Порой боль была такой страшной, что я сгибался пополам и бессознательно шептал: «Боже, спаси меня!», но уже в следующий миг брал себя в руки и уверенно твердил Богу: «Пожалуйста, не волнуйся за меня! Мун Сон Мён еще не умер. Я не позволю себе умереть таким жалким образом».
И я оказался прав. Мое время умирать еще не пришло, ведь мне предстояло выполнить великое множество дел и справиться с миссией. Я не мог быть настолько слабым, чтобы от меня можно было добиться покорности с помощью такой банальной вещи, как пытка.
Каждый раз, теряя сознание во время пытки, я терпел и твердил про себя: «Я терплю побои ради корейского народа и проливаю слезы, чтобы хоть как-то облегчить боль людей». Когда меня пытали особенно жестоко и я был на грани обморока, я неизменно слышал голос Бога. Когда моя жизнь была готова вот-вот оборваться, Бог являлся ко мне. На моем теле до сих пор остались шрамы от пыток. Раны после вырванных клочьев мяса со временем затянулись и пролитая кровь давно восстановилась, но боль от пережитых мучений осталась со мной в виде шрамов. Глядя на эти шрамы, я часто говорил себе: «Ты должен победить уже потому, что носишь на себе эти отметины!»
Я должен был предстать перед судом 3 апреля, на сороковой день моего заключения. Однако слушание дела отложили на 4 дня, и оно состоялось лишь 7 апреля. Многие известные корейские христианские священники явились в суд, чтобы обвинить меня во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. Коммунисты тоже не упустили шанс поиздеваться надо мной и заявили, что религия — это опиум для народа. В зале были и члены нашей Церкви; они стояли в стороне и горько плакали — так, словно теряли своего мужа или сына.
Один я не плакал. Со мной были мои прихожане, которые рыдали обо мне так мучительно, что их буквально скручивало от горя, поэтому я не чувствовал себя одиноким на пути Небес. Для меня это не было бедой или несчастьем — значит, не было и повода для слез. Покидая зал после оглашения приговора, я поднял руки, закованные в наручники, и помахал своим братьям и сестрам. Наручники зазвенели, и этот звук был похож на звон колоколов. В тот день меня отправили в пхеньянскую тюрьму.
Я не боялся тюремной жизни. Для меня это было не в новинку. В каждой камере существовала определенная иерархия среди заключенных, и я хорошо умел находить общий язык с главным в камере. Мне было достаточно перекинуться с ним парой слов, и мы становились приятелями. Когда твоя душа переполнена любовью, ты можешь тронуть сердце любого человека.
После того как я просидел несколько дней в самом дальнем углу камеры, старший заключенный захотел пересадить меня на место получше. Я занял самый дальний угол у параши, но он настаивал на том, чтобы я пересел на более удобное место. Сколько бы я ни отказывался, он все равно не отступал.
Подружившись со старшим в камере, я внимательно пригляделся к каждому из заключенных, ведь лицо человека может рассказать о нем все: «Ага, твое лицо такое-то и такое-то, поэтому у тебя такой-то характер», или «Ты выглядишь так-то и так-то, и это говорит о том, что у тебя есть такие-то черты».
Заключенные изумлялись тому, как много я мог рассказать о них по чертам лица. В душе они не были в восторге от того, что человек, которого они видели впервые, так много знал о них, но не могли не признать, что мои наблюдения верны.
Я мог свободно открыть людям свое сердце и поговорить с ними о чем угодно, поэтому и в тюрьме у меня появились друзья — к примеру, я подружился с убийцей. Для меня это заключение было несправедливым, однако оно стало бесценным периодом тренировки. Таким образом, любые трудности в нашей жизни имеют для нас глубокий смысл.
В тюрьме можно подружиться даже со вшами. В камерах было очень холодно, и вши забивались в швы тюремной одежды. Мы выковыривали их оттуда и соединяли попарно, и они сцеплялись лапками и прижимались друг к другу, превращаясь в крохотные шарики. Мы катали их по полу, как жуки-навозники катают навозные катышки, а вши отчаянно старались покрепче прижаться друг к другу. Вши любят зарываться куда-нибудь поглубже, поэтому они прижимались друг к другу головами и выставляли спинки наружу. Так забавно было наблюдать за ними, сидя в камере!
Обычно люди не любят ни вшей, ни блох. Но в тюрьме даже вши и блохи становятся хорошими приятелями, с которыми можно поболтать. Когда вы невольно обращаете внимание на ползущего клопа или блоху, вас может посетить мысль или идея, которую просто нельзя оставить без внимания. Мы никогда не знаем, каким образом и с помощью чего Бог захочет обратиться к нам. Поэтому нам следует быть начеку и принимать во внимание любые мелочи — даже клопов и блох.
Рисовое зернышко, ставшее дороже целого мира
Двадцатого мая, через три месяца после заключения в пхеньянскую тюрьму, меня перевели в тюрьму Хыннам. Я был преисполнен негодования и чувствовал стыд перед Небесами. Меня сковали наручниками с вором, чтобы я не сбежал, а затем нас посадили на поезд и отправили в путь, который занял семнадцать часов. Глядя в окно, я чувствовал, как из глубины души к горлу подступает нестерпимая горечь. Казалось невероятным, что мне приходится проделывать весь этот извилистый путь через реки и долины в качестве узника.
Тюрьма Хыннам представляла собой концентрационный лагерь, узники которого трудились на фабрике по производству удобрений. В течение двух лет и пяти месяцев я занимался там тяжелым принудительным трудом. Саму систему принудительного труда Северная Корея переняла у Советского Союза. Советское правительство, опасаясь за свою репутацию в глазах мирового сообщества, не могло взять и перебить тех, кто принадлежал к классу буржуазии или просто не был коммунистом. Для этого оно придумало особую меру наказания — принудительный труд. Людей жестоко эксплуатировали и принуждали к непосильному труду до тех пор, пока они не умирали от истощения.
Коммунисты Северной Кореи переняли советскую систему и стали приговаривать заключенных к трем годам принудительных работ; в реальности до окончания этого срока почти никто не доживал.
Наш день начинался в 4:30 утра. Мы строились на плацу, и нас обыскивали на предмет наличия запрещенных вещей, проверяя тело и одежду. Мы снимали с себя всю одежду, и она тщательно обыскивалась. Каждую тряпку выколачивали так, что на ней не оставалось и пылинки. Вся процедура занимала не менее двух часов. Лагерь Хыннам находился на морском побережье, и зимний ветер, словно стилет, кромсал наши голые тела.
После проверки нас кормили отвратительной пищей, и затем мы шли четыре километра до фабрики удобрений. Мы шагали туда колоннами по четыре человека, держась за руки с теми, кто шел впереди, и не имея права даже поднять головы. Нас сопровождал вооруженный конвой. Тех, из-за кого колонна отставала или кто размыкал руки с впередиидущим, жестоко избивали за попытку побега.
Зимой на дорогу наметало сугробы выше человеческого роста. Морозными зимними утрами, когда нам приходилось шагать через сугробы, достававшие до макушек, у меня начинала кружиться голова. Заледеневшая дорога была скользкой, как каток, а морозный ветер обжигал таким холодом, что волосы буквально становились дыбом. Даже после завтрака мы чувствовали себя обессиленными, и у нас подгибались колени. Тем не менее, нам приходилось проделывать весь путь до фабрики, едва волоча ноги. И я, плетясь по дороге в полуобморочном состоянии, твердил себе снова и снова, что я — сын Небес.
На фабрике нас ожидала гора удобрения, которое мы называли аммонием. На самом деле это был сульфат аммония — самое распространенное сельскохозяйственное удобрение. Проходя по конвейеру, этот порошок сыпался из желоба прямо в огромную кучу на пол, словно белый водопад. Вылетая из желоба, аммоний был очень горячим, и даже среди зимы над ним поднимались ядовитые испарения.
Порошок очень быстро остывал и становился твердым, как лед. Наша работа состояла в том, чтобы разгребать лопатами эту кучу и наполнять аммонием соломенные мешки. Эта куча более двадцати метров высотой звалась у нас горой удобрений. Около этой горы посреди огромной территории трудилось одновременно восемьсот или девятьсот человек, пытаясь урезать гору хотя бы наполовину.
Нас разбивали на бригады по десять человек, и каждой бригаде нужно было за день наполнить и погрузить 1300 мешков, то есть по 130 мешков на человека. Если бригада не справлялась с задачей, рацион ее членов урезался вдвое, поэтому все трудились так, словно от выполнения плана зависела их жизнь.
Чтобы перетаскивать наполненные мешки с большей эффективностью, мы сшивали их самодельными иглами из стальной проволоки. Иглы мы делали так: брали кусок проволоки и клали его на рельсы, пробегавшие через фабрику. Когда по рельсам проходила небольшая вагонетка с сырьем, проволока расплющивалась и становилась хорошей иглой.
Чтобы прорезать дырки в мешках, мы использовали осколки стекла, ради которых приходилось бить окна на фабрике. Наверное, охранники все-таки жалели нас, видя, в каких ужасных условиях нам приходится работать, потому что они не запрещали нам бить окна. Однажды, пытаясь перегрызть кусок проволоки, я сломал себе зуб. Даже сейчас можно увидеть, что один из моих передних зубов слегка обломан. Для меня это — незабываемое напоминание о тюрьме Хыннам.
Из-за непосильного труда люди истощались все сильнее — все, кроме меня. Я сохранял свой прежний вес в 72 килограмма, чем вызывал зависть у сокамерников. Я всегда отличался недюжинной физической силой. Но однажды я все-таки сильно заболел — судя по симптомам, это было что-то похожее на туберкулез. Эти симптомы держались около месяца, однако я не пропустил ни дня работы на фабрике. Я знал, что если не приду, ответственность за мою часть работы ляжет на остальных членов бригады.
Благодаря моей силе люди называли меня «стальным человеком». Я мог вынести даже самую тяжелую работу. Тюрьма и принудительный труд не были для меня серьезной проблемой. Как бы жестоко вас ни избивали и какими бы ужасными ни были обстоятельства вашей жизни, вы стерпите все, если в вашем сердце есть ясная цель.
Серная кислота, которая использовалась для производства сульфата аммония, оказывала губительное воздействие на наш организм. Когда я работал на японской сталелитейной фабрике в Кавасаки, я несколько раз был свидетелем того, как люди, промывавшие цистерны из-под серной кислоты, умирали от ее токсичных испарений. В Хыннаме ситуация была гораздо хуже. Кислотные испарения были такими густыми и ядовитыми, что у людей выпадали волосы и кожа покрывалась язвами, из которых сочились кровь и лимфа. Большинство людей, работавших на фабрике, очень быстро начинало рвать кровью, и они умирали в течение полугода. Мы надевали для защиты рук резиновые перчатки, но их очень быстро разъедало кислотой. Серная кислота уничтожала нашу одежду, делая ее непригодной для носки, и заставляла нашу кожу рваться и кровоточить, порой разъедая ее до костей. Однако нам приходилось работать без единого выходного, несмотря на то, что наши раны постоянно кровоточили и сочились гноем.
Наш дневной рацион состоял из двух неполных чашек риса. К нему не было никаких добавок, кроме супа — круто подсоленной воды с плавающими в ней листьями редиса. Суп был таким соленым, что от него першило в горле, но так как рис был слишком твердым, нам приходилось размачивать его в супе. Однако никто и не думал отказываться от супа — заключенные выпивали все до последней капли. Получив свою порцию риса, люди тут же проглатывали ее одним махом. А потом, съев свой рис, они вытягивали шеи и оглядывались по сторонам, наблюдая, как едят другие. Порой кто-нибудь запускал свою ложку в чужую миску с супом, и начиналась потасовка.
Один священник, который был вместе со мной в Хыннаме, однажды сказал: «Дай мне хотя бы одну фасолинку, и я подарю тебе двух коров, как только мы выберемся отсюда». Люди были в таком отчаянии, что если кто-нибудь из заключенных умирал во время еды, окружающие выковыривали у него изо рта остатки риса и доедали их.
Что такое боль от голода, знают лишь те, кто лично испытал ее. Когда человек голоден, обычное зернышко риса становится просто бесценным. Даже сейчас я прихожу в волнение, стоит мне лишь подумать о Хыннаме. Трудно поверить, что одно-единственное рисовое зернышко может придать телу столько сил, но когда ты очень голоден, ты до слез тоскуешь о еде. Если человек сыт, мир кажется ему большим и значительным, но для голодного человека зернышко риса становится больше целого мира. Для того, кто голодает, рисовое зернышко приобретает колоссальную ценность.
С первого же дня в тюрьме я взял за привычку отдавать половину своей порции другим заключенным и съедать лишь то, что оставалось. Я тренировался так три недели, а потом стал съедать свою порцию целиком. Это внушило мне мысль о том, что моей порции достаточно для двух человек, и благодаря этому мне было легче переносить голод.
Жизнь в концлагере была так ужасна, что ее невозможно представить, не испытав на собственном опыте. Половина заключенных умирала в первый же год, и нам каждый день приходилось видеть, как через задние ворота выносят мертвецов в деревянных гробах. Мы трудились не покладая рук, и единственной нашей надеждой выбраться из неволи был такой вот деревянный ящик.
То, что с нами делали, было бесчеловечным зверством даже для такого жестокого и немилосердного режима. Все эти мешки с удобрениями, пропитанными слезами и горем заключенных, грузились на корабли и отправлялись в Советскую Россию.
Тюрьма Хыннам, запорошенная снегом
После еды самой ценной вещью в тюрьме была иголка с ниткой. Наша одежда изнашивалась и рвалась во время непосильной работы, но у нас не было иголок и ниток, чтобы чинить ее. Очень скоро заключенные стали походить на нищих, одетых в лохмотья. Нам было очень важно залатать все дырки на одежде, чтобы хоть немного защитить тело от леденящего зимнего ветра. Если кому-то удавалось найти кусок тряпки, лежащий на дороге, — это было такое счастье! Даже если эта тряпка была в коровьем помете, заключенные дрались за право взять ее себе.
Однажды, перетаскивая мешки с удобрением, я заметил иглу, воткнутую в один из них. Наверное, ее забыли там случайно, когда шили мешок. С того дня я стал портным хыннамской тюрьмы. Как я радовался этой находке! С ее помощью я каждый день чинил штаны своим сокамерникам.
На фабрике даже в разгар зимы было так жарко, что с нас ручьями лился пот. А теперь представьте, что творилось в разгар лета! Однако я ни разу за все время не позволил себе закатать штаны и обнажить ноги. Даже в самые жаркие летние месяцы я подвязывал штаны снизу на корейский манер. Другие спокойно снимали штаны и работали в одних трусах, но я всегда старался одеваться подобающим образом.
Когда мы заканчивали работу, наши тела были липкими от пота и покрытыми пылью от удобрений. Большинство заключенных раздевались догола и купались в ручье из сточных вод, который вытекал с фабрики. Но я никогда не купался там, где люди могли увидеть мое тело. Вместо этого я сберегал половину чашки воды, выдаваемой на день, и рано поутру, когда все спали, обтирал свое тело маленькой тряпочкой, макая ее в чашку. Эти утренние часы я также посвящал тому, чтобы прояснить свой дух и помолиться. Мое тело было для меня драгоценным, и я не хотел демонстрировать его налево и направо.
В каждой камере сидело по 36 заключенных, и я занял место в самом углу, у параши. В этом месте через меня никто не перешагивал, но люди все равно не хотели там спать. То, что мы называли туалетом, на самом деле было небольшим глиняным горшком без крышки. Летом содержимое выплескивалось из него, а зимой превращалось в лед. Невозможно описать, как ужасно все это воняло! Из-за пересоленного супа и недоваренного риса заключенных часто мучил понос.
Сидя у параши, я часто слышал, как кто-нибудь из заключенных причитал: «Ох, как болит живот!» — и мелкими перебежками спешил к туалету. Стоило ему снять штаны, как понос буквально выстреливал наружу и меня окатывало брызгами. Даже ночью, когда все спали, у кого-нибудь начинал болеть живот. Я слышал сквозь сон вскрики людей, на которых наступали спешащие в туалет, и тут же просыпался, чтобы отползти и вжаться в стену. Если я не успевал проснуться и сгруппироваться, приходилось терпеть последствия... Чтобы выдержать этот кошмар, я пытался представить, что все эти зрелища и звуки — всего лишь особая форма искусства.
И все же я сохранил за собой место у туалета на все время заключения. Люди спрашивали, почему я выбрал именно его, и я отвечал им, что мне так удобнее. Это были не просто слова. Без сомнения, именно в этом месте я чувствовал себя наиболее спокойно.
Мой тюремный номер был 596, и меня звали «номер пять девять шесть» («5» по-корейски «о», «9» — «гу», а «6» — «рюк»). Если ночью я не мог заснуть, я лежал, уставившись в потолок, и повторял про себя этот номер снова и снова. Если я проговаривал его очень быстро, получалось «огуль» — слово, которым корейцы обозначают чувство несправедливости. То, как со мной поступили, было действительно несправедливо!
Коммунисты организовывали для нас докбохве — собрания, на которых зачитывались газеты и другие агитационные материалы в целях пропаганды коммунизма. Еще нас заставляли писать письма благодарности Ким Ир Сену. Комитет безопасности следил за каждым нашим движением. Каждый день мы должны были писать благодарственные письма, описывая в них то, чему мы научились, но я за все время не написал ни строчки.
От нас требовалось писать примерно вот что: «Наш Отец Ким Ир Сен из большой любви к нам каждый день хорошо кормит нас, потчует мясными блюдами и дарует чудесную жизнь. Большое ему спасибо!» У меня рука не поднималась писать подобное. Даже глядя в глаза смерти, я не мог написать такие вещи в адрес атеистической компартии. Вместо этого я трудился в десять раз усерднее остальных, чтобы выжить в тюрьме. Для меня был единственный способ оставаться безнаказанным, не написав ни строчки: стать самым лучшим заключенным. И я действительно стал им благодаря приложенным мной усилиям и даже получил награду из рук партийного чиновника.
Пока я был в тюрьме, меня часто навещала мама. От Чонджу до Хыннама не было прямого сообщения, поэтому ей приходилось садиться на поезд до Сеула и затем пересаживаться на поезд до Вонсана. На дорогу у нее уходило более двадцати изматывающих часов.
Перед отъездом она с большими сложностями добывала рис и готовила для меня мисуткару — рисовую муку, чтобы ее сын, оказавшийся в тюрьме в самом расцвете лет, мог что-нибудь поесть. Чтобы приготовить муку, она просила рис у родни и даже у дальних родственников мужей моих старших сестер. Стоило ей войти в комнату для свиданий и увидеть меня по другую сторону стеклянной перегородки, как она тут же начинала плакать. Это была сильная женщина, но при виде страданий, выпавших на долю ее сына, она становилась слабой.
Мама принесла мне шелковые штаны, которые я надевал на свадьбу. Моя тюремная роба износилась так, что сквозь прорехи проглядывало тело. Однако вместо того, чтобы надеть эти штаны, я отдал их другому заключенному, а рисовую муку, ради приготовления которой ей пришлось влезть в долги, я раздал тут же, прямо у нее на глазах. Мама вложила всю душу, чтобы приготовить и собрать передачу своему сыну, и ее сердце было разбито, когда я раздал все другим, не оставив себе ничего.
«Мама, — сказал я ей, — я ведь не просто сын человека по фамилии Мун. Прежде всего я сын Республики Корея и сын всего мира, сын небес и земли, и лишь потом — сын рода Мунов. Мне кажется, будет правильно, если я полюблю их в первую очередь и лишь потом буду слушать и любить тебя. Я ведь не могу быть сыном человека, чей кругозор настолько ограничен. Пожалуйста, поступи как мать, достойная своего сына!»
Мои слова обожгли ее ледяным холодом, и мне было невыносимо больно видеть, как она рыдает. Мое сердце просто разрывалось на части... Я скучал по ней так, что иногда просыпался среди ночи и думал о ней, однако тем больше у меня было оснований не поддаваться своим чувствам. На мне лежала ответственность, данная Богом, и для меня было важнее чуть теплее одеть и чуть сытнее накормить кого-то еще, чем переживать из-за отношений с мамой.
Даже в тюрьме я старался выкроить лишнюю минутку, чтобы побеседовать с людьми. Вокруг всегда находились те, кто готов был выслушать меня. Даже в холодной и голодной тюремной жизни меня согревало тепло общения с родственными душами. Благодаря такому общению я нашел в тюрьме Хыннам двенадцать друзей — бывших соотечественников, которые стали для меня ближе самых родных людей и с кем я мог бы провести остаток жизни. Среди них был и известный священник, бывший президент Ассоциации христианских церквей пяти северных провинций Кореи. С этими людьми я делился самыми глубокими переживаниями, находясь на грани жизни и смерти, поэтому они стали мне ближе, чем моя собственная плоть и кровь. Их присутствие придавало смысл моему тюремному существованию.
Я три раза в день молился о тех, кто помогал мне, и о членах нашей общины в Пхеньяне, называя каждого по имени. В такие минуты я всегда чувствовал, что должен сделать в тысячу раз больше для всех, кто протягивал мне горстку еды, специально припрятанную под одеждой.
Вооруженные силы ООН открывают ворота тюрьмы
Пока я отбывал срок в тюрьме Хыннам, началась Корейская война. Спустя три дня после начала войны южнокорейские войска оставили Сеул и отступили на юг Кореи. И тогда шестнадцать стран во главе с США в составе войск ООН вмешались в ход Корейской войны. Войска США высадились в Инчхоне и двинулись на Вонсан, крупнейший индустриальный центр Северной Кореи.
Разумеется, тюрьма Хыннам тут же стала главной мишенью бомбардировки ВВС США. Во время бомбардировок тюремные охранники бросали заключенных и прятались в бомбоубежища. Им было все равно, выживем мы или нет. Однажды передо мной явился Иисус; по его щекам текли слезы. Я воспринял это как предупреждение и закричал: «Идите сюда и не отходите от меня дальше чем на 12 метров!» И тут же в 12 метрах от меня разорвалась бомба. Те из заключенных, что были рядом со мной, остались в живых.
Бомбардировки становились все чаще и интенсивнее, и охранники начали избавляться от заключенных. Они выкрикивали наши номера и приказывали явиться в строй, захватив с собой трехдневный запас еды и лопату. Заключенные думали, что их просто переводят в другую тюрьму, однако на самом деле их отводили в горы и заставляли рыть ямы, а потом хоронили в этих ямах. Людей вызывали на казнь в зависимости от величины срока: тех, чей срок был самый большой, казнили в первую очередь. И тогда я понял, что мой черед наступит на следующий день.
Однако в ночь накануне моего предполагаемого расстрела началась массированная бомбардировка: бомбы сыпались с неба, как тропический ливень. Это было 13 октября 1950 года. В тот день войска США высадились в Инчхоне и двинулись на север, чтобы освободить Пхеньян и Хыннам, а ночью атаковали Хыннам силами бомбардировщиков Б-29. Бомбардировка была такой ожесточенной, что весь лагерь был охвачен шквалом огня. Тюремные стены рухнули, и охранники стали разбегаться, спасая свою жизнь. И вот наконец-то открылись ворота тюрьмы, которые сдерживали нас все это время! Примерно в два часа утра следующего дня я спокойно и с достоинством покинул тюрьму Хыннам.
Я пробыл в заключении в Пхеньяне и Хыннаме два года и восемь месяцев, и мой внешний вид был просто ужасным — от одежды и белья остались одни лохмотья. И вот так, прямо в лохмотьях, вместо того чтобы вернуться домой, я отправился в Пхеньян с группой последователей, которых нашел в тюрьме. Некоторые из них пошли за мной вместо того, чтобы идти искать своих жен и детей. Я могу лишь представить, как моя мама плакала каждый день, переживая за мою судьбу, но мне было важнее позаботиться о членах моей общины, оставшихся в Пхеньяне.
По пути в Пхеньян мы увидели, что Северная Корея готовится к войне. Крупнейшие города были связаны между собой двухполосными дорогами, которые при необходимости можно было использовать для военных целей. Многие мосты были забетонированы, чтобы выдержать вес тридцатитонных танков. Удобрения, упакованные заключенными Хыннама с риском для жизни, отправляли в Россию в обмен на устаревшую, но вполне пригодную военную технику, которая развертывалась вдоль всей 38 параллели.
Прибыв в Пхеньян, я тут же отправился на поиски членов общины, которые были со мной вплоть до заключения под стражу. Мне было очень важно разыскать их и узнать их дальнейшую судьбу. Война разбросала кого куда, но я чувствовал ответственность за то, чтобы найти их и помочь выбрать правильный путь в жизни. Я понятия не имел, где их искать, и единственное, что мне оставалось — это обойти весь Пхеньян от края до края.
Неделя поисков — и я нашел всего трех-четырех человек. Я сберег немножко рисовой муки, которую мне дали еще в тюрьме, и, смешав ее с водой, сделал для них лепешки. По пути из Хыннама я пытался забить голод парой мерзлых картофелин и даже не притронулся к этой муке. Я был сыт уже при виде того, как люди с аппетитом поглощали эти лепешки.
Я пробыл в Пхеньяне 40 дней, пытаясь разыскать всех, кого мог, будь то стар или млад, но так и не узнал, что стало с большинством из них. Все эти люди навсегда остались в моем сердце...
Ночью 2 декабря я отправился на Юг. Мы с Ким Вон Пхилем присоединились к колонне беженцев длиной в двенадцать километров и еще взяли с собой человека, который не мог ходить. Это был один из последователей, присоединившихся ко мне в хыннамской тюрьме, по фамилии Пак. Его освободили прямо передо мной. Когда я пришел к нему домой, оказалось, что все члены его семьи уже ушли на Юг, а он сидел в доме один со сломанной ногой. И тогда я посадил его на велосипед и взял с собой.
Северокорейская армия уже оккупировала все дороги для военных целей, поэтому мы шли к Югу по замерзшим рисовым полям и отчаянно спешили. Китайская армия шла за нами буквально по пятам, однако нам трудно было шагать быстро, потому что с нами был человек, который не мог идти. Примерно половину пути дорога была такой ужасной, что мне приходилось сажать его на спину и нести на себе, пока Вон Пхиль вел велосипед. Этот человек все время твердил, что не хочет быть обузой для меня, и несколько раз пытался свести счеты с жизнью. Я же пытался убедить его не сдаваться и порой просто орал на него. В конечном итоге мы с ним дошли до конца.
Мы были беженцами, и нам надо было что-то есть. Мы заходили в дома, брошенные жителями, бежавшими на Юг, и пытались найти там что-нибудь съестное, а потом варили все, что удавалось найти, будь то рис, ячмень или картошка. Так мы и выживали. У нас не было никакой посуды, и есть нам приходилось щепками вместо палочек, но еда была такой вкусной! В Библии сказано: «Блаженны нищие духом», верно? Мы ели все, что под руку попадет, и наши желудки довольно урчали в ответ. Даже кусок ячменной лепешки казался нам таким лакомством, что не нужны были никакие царские яства. Каким бы голодным я ни был, я всегда заканчивал есть раньше других, чтобы им досталось чуть больше.
И вот, пройдя достаточно длинный путь, мы приблизились к северному берегу реки Имджин. Не знаю почему, но я почувствовал, что нам нужно как можно скорее перебраться на другой берег, не теряя ни минуты. Я очень ясно ощутил, что нам необходимо поскорее преодолеть это препятствие, чтобы остаться в живых, и стал безжалостно подталкивать Ким Вон Пхиля. Он был молод и так устал, что спал на ходу, но я толкал и толкал его вперед, волоча за собой велосипед. В ту ночь мы прошли тридцать два километра и добрались до берега реки Имджин. К счастью, река была покрыта льдом, и мы пересекли ее вслед за другими беженцами, шедшими впереди нас. За нами вытянулись целые колонны тех, кто еще не дошел до реки, однако сразу же после того, как мы пересекли реку, войска ООН перекрыли дорогу и преградили людям путь, не пуская их на тот берег.
Если бы мы пришли к переправе буквально на несколько минут позже, мы не смогли бы перейти на другую сторону.
Как только мы ступили на твердую землю, Ким Вон Пхиль оглянулся назад и спросил меня:
— Как вы узнали, что переправа через реку будет закрыта?
— Я просто почувствовал это, — ответил я. — Если человек ступил на путь Небес, с ним вполне может происходить нечто подобное. Люди зачастую и не догадываются, что спасение ждет их прямо за очередным препятствием. Мы не могли ждать ни минуты, и если бы мне пришлось схватить тебя за шиворот и перетащить через реку силой, я бы так и сделал.
Казалось, мои слова произвели впечатление на Вон Пхиля, но у меня на душе все равно было неспокойно. Когда мы подошли к тому месту, где 38 параллель делит полуостров на две части, я ступил одной ногой на землю Северной Кореи, а другой — на землю Южной Кореи, и начал молиться:
«Сейчас нам приходится в спешке бежать на Юг, однако я скоро вернусь на Север и, призвав силы демократического мира, освобожу Северную Корею и объединю Север и Юг».
Эту молитву я повторял про себя все время, пока мы шли на Юг вместе с беженцами.